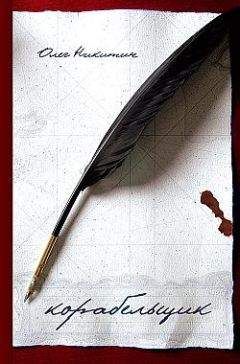Юз Алешковский - Карусель
Тут Пусенька на меня визгливо залаяла, но замолкла, когда повисла в воздухе на поводке при выходе Жоржика из автобуса. Вот так, думаю, и меня бы ты вздернул, будь на то твоя сила и власть. Вздернул, но не отпустил, как свою Пусеньку, а ждал бы, когда вывалится из моего искаженного ненавистью и презрением к тебе рта синий прикушенный язык.
Плевать мне было в тот миг на последствия такого разговора, а Жоржик не спеша, не сказав рабочим ни слова и не оглянувшись, словно не было у него минуты назад чудовищного разговора с каким-то пархатым жидом — провокатором сионизма, поканал прочь от нас. Он жестоко то и дело дергал поводок, срывая, очевидно, бешеную ярость на Пусеньке. Вдруг он остановился, как внезапно что-то вспомнивший человек, повернулся и дружелюбно поманил меня пальцем. При этом он улыбался, как бы извиняясь за то, что чуть не ушел, забыв сообщить очень важную и приятную новость. Я не трогался с места, пока он, улыбнувшись еще приветливей, не пошел мне навстречу. Шагнул и я. Поравнялись мы. Жоржик приблизил ко мне белое, отекшее слегка от вечной учрежденческой житухи лицо и сказал следующее:
— Поскольку мы говорили, Ланге, с глазу на глаз, не могу не сказать тебе вот чего: не верил я, когда там, у нас, — он дал понять взглядом, что наверху, — утверждали, доказывали, будто все вы так или иначе, рано или поздно становитесь подрывными врагами, бациллами недовольства и мелкопотребительских настроений. Возражал против мнения ряда товарищей, будто каждый волк, сколько его ни корми, в лес смотрит. Примеры приводил. Зампред Косыгина — Дымшиц, редактор Чаковский, хоть и лицо у него преотвратительнейшее. Кинорежиссер Чухрай, академик Митин, скульптор Кербель, лауреат Нобелевской премии Канторович. Композиторы Шаинский и Давид Тухманов. Скрипач Коган. Писатель-истребитель Генрих Гофман. Переводчики Расула Гамзатова Козловский и Гребнев. Футболист Гершкович. Политический обозреватель Зорин. Певец Кобзон. Драматург Самуил Алешин и многие другие евреи, не клюнувшие на сионистские и сахарово-солженицынские удочки. Ты, Ланге, разубедил меня. Я был не прав, возражая товарищам, и только навредил себе подобными возражениями. Спасибо тебе. Волки в лес смотрят. Но только лес этот, заверяю тебя, со временем будет нашим.
Я, наверное от нервишек, засмеялся и сделал Жоржику жест рукой: муде враскачку показал с отворотом. Вы, дорогие, не сможете понять такой выразительный жест, пока сами его не увидите.
Работягам же я раскинул черноту с темнотой (соврал), что разговор у нас состоялся с Жоржиком серьезный, что и он видит ненормальность положения, когда рабочие крупного промышленного города сосут ишачий член по девятой усиленной. Это выражение вам тоже будет непонятно.
Обещал, говорю, Жоржик провентилировать наверху продовольственную проблему, а также вопрос об алкоголизме и преступности среди молодежи. Наливайте, братцы, чернил (портвейн), хрен с ними, с жоржиками и с ихними пусеньками. У нас своя жизнь. Выпьем за нее!
Выпили мы, и, стараясь не вспоминать свое поведение с бывшим хозяином нашей области, ибо не покидала надсадная тревога мое сердце, смотрел я и смотрел в окошко.
Мы проезжали места, где в сорок первом и сорок втором воевал я и Федор был моим командиром… Подлесок вымахал в стройный соснячок… Бывшая опушка густым ельником подступила к самой обочине… Не видать вон там, за белою стеной берез, низинки с лесною речушкой. Деревенька вымерла… Только надмогильная пирамида жива. Покосилась. Полустерты на ней и вымыты дождями и ветрами имена погибших товарищей. А если свернуть на большак, если проехать лесной дорогой, то увижу я тихую реку и крутой бережок, на котором оглоушили моего Федора немцы.
Рассказал я историю его пленения и освобождения ребятам, похлебывая портвешок, и похохотали мы все вволю, особенно в том месте, где бедный Франц обосрался от страха.
Правда, фигурировали в моей байке не я и Федор, не переводчик Козловский, чтоб он сгинул, если еще жив, а два друга Легашкин и Промокашкин… А там вон — ни пирамидки, ни могилки под ней не осталось. Точно на ее месте столб торчит с лозунгом «Слава КПСС»… Не развеяло тогда веселое воспоминание тревоги моей души. Не развеяло. Сами по себе нет-нет да и возникали, хоть и отмахивался я от них, проклятые мысли о еврейской судьбе. Чего же всякие чиновные хари, словно сговорились они, взялись напоминать мне, что не дома у себя нахожусь я, а в гостях? Как будто не родился я здесь, не жил, не строил, не воевал, не отстраивал, не отдал времени своей жизни труду, не помогал превратить вместе со всеми бесчеловечное это государство в то, чем оно сейчас является, — не для меня, не для друзей моих, трясущихся в продуктово-экскурсионном автобусе, а для партийных придурков жоржиков — в систему снабжения советских руководителей, в ракетно-ядерный СССР. Как мне быть? В каких выражениях возражать? Как защитить свое достоинство и заработанное всею жизнью право на жилье, покой и нормальную смерть в кругу семьи?
Так я думал тогда в автобусе и, хоть горько мне было думать обо всем этом, вспоминал Федора. Вспоминал и запоздало соглашался с тем, что не раз говорил он мне, не раз внушал и раскрывал глаза на многое в советской жизни. Но я отмахивался и в свою очередь внушал ему, что, конечно, вокруг ложь, бардак, насилие и бесправие, но разве есть у нас возможность пойти против ощетиненной и готовой к беспощадной защите своих привилегий махины? Разве есть? Метать в них гранаты? Извини, Федя. Я не убийца. Убийцей я уже побывал на войне. Хватит. Распространять листовки? Наши же приятели, даже не читая, тут же отволокут их в Чека. Писать письма, как Сахаров? Я не умею, а ты больше одного письма не напишешь и ответ на него получишь или в психушке, или в тюрьме. Кто-кто, а ты испытал на своей шкуре последствия безобидного, в общем, сопротивления и инакомыслия, сказав всего-навсего парторгу: «„Давай“ в Москве хуем подавился». Испытал? Испытал.
— Не знаю, что делать, — отвечал Федор, — но чую, что и жить так отвратительно и бессовестно.
— А может, — говорил я, — наоборот, именно в такие времена, если уж нет силенок сладить с черной силой и понимаешь, что протест твой одинокий безумен и самоубийствен, может, наоборот — именно в такие времена следует как раз считать целью именно честную, трудовую, радостную, несмотря на все лишения, жизнь и как-то стараться передавать из рук в руки, неприметно для политруковских глаз, словно угольки в доисторические времена, все то, что делает эту жизнь жизнью человеческой: веру, надежду, любовь, добро, солидарность рабочую, чувство справедливости, чистоту сердца, верность семье и страсть к лесу, к реке, к песне и веселью? Что ты на это ответишь, Федя?
— Не знаю, Давид, может, и прав ты, — говорил Федор. — Большинство людей так и живет, и, конечно, на них держится человеческая жизнь, а не на словесах райкомовского лектора, у которого башка набита газетной трухой, давно побывавшей в наших задницах. Может, ты и прав, Давид, но одного я боюсь, только одного во всей видимой мною лично вселенной. Знаешь, чего я боюсь больше смерти? Сейчас я скажу тебе: предсмертной муки сожаления, что холостым остался навек и не был пущен в божеское дело для раскрытия глаз толпы рабов заряд моего понимания лживости, звериной подлости, тупости и совершеннейшего цинизма тех, кто делал и делает из нас скотов. Жалок бугай, который полон сил, имел острейшие рога и лбину широкую и мощную, как нож бульдозера, плюс тушу многопудовую и, следовательно, имел возможность подохнуть с честью и сопротивиться, когда почуял неотвратимость угона на бойню имени Ленина. Мог оставить в лапах погонщиков стальное кольцо вместе с куском рваной губы и пролететь на своих четырех, хвост трубой, к зеленому лугу и расшвыривать до грома, достойного выстрела, и топтать пожелавших вновь его заполонить, но который вместо этого ступил, согнув хребтину и роняя слюну, на крутой мосток — попасть в кузов грузовика. Потом под смертельным электрокопьем, за секунду до гибели он пожалеет не о себе, а о погибшей возможности подохнуть свободным… Несчастнейший и жалкий, одним словом, бугай.
Вот чего я боюсь, Давид, вот что мучает меня и не дает покоя. Ведь если в человека вселяются бесы и он бесновато совершает черт знает что, не пошевелив даже пальцем, чтобы освободиться от наваждения и перестать, собственно, не быть самим собой, но тем более, раз уж не весь еще человеческий род стал бесноватым, должно существовать в душе спасительное повеление соответствовать тому, что, по высшему замыслу, есть Человек. В твоей воле не соответствовать, ты себе хозяин, нет свободы распоряжаться собой больше, чем та, что тебе вручена от рождения, но не избыть до самого смертного твоего часа, до последней малой искорки от угасающего огня твоей жизни, этой муки сожаления. Ты взмолишься: дай, Господи, еще сутки, дай, и я небесполезно потрепыхаюсь, я уложусь всего в одни сутки, Господи! Но не будет тебе нового срока бытия для должного действия, не будет ни малейшей на неотвратимом пороге добавки времени. Потому что его когда-то было в преизбытке. Ты вполне мог как следует им распорядиться, если бы делал для этого все, что в твоих силах. А уж если бы и тогда не хватило тебе времени, то не твоя в том вина, живи и помирай спокойно. Человек не всесилен. Продолжаем, Давид, жить, — сказал в конце того разговора Федор, — авось судьба не даст ни тебе, ни мне запропасть вхолостую.