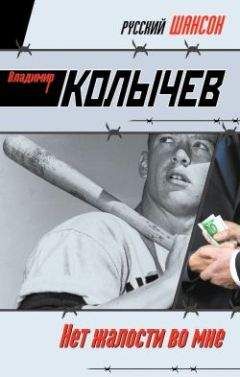Энтони Берджесс - Мистер Эндерби изнутри
Перед уходом окликнул хозяйку, но та, не укрытая, распростершись, лежала на двуспальной кровати, тяжко трудясь во сне. Сиськи, как плохо застывшее бланманже, мягко дрогнули под просвечивающей ночной рубашкой, когда проехал грузовик. Черный дым волос на лице поднимался и опадал, слушаясь храпа. Эндерби накрыл ее стеганым пуховым одеялом, поклонился и ушел. Она не так стара, решил он. Глупая толстая девка, на злобу, фактически, не способная. Дала приют Эндерби; Эндерби этого не забудет.
Спускаясь по лестнице, встретил собственного молочника: пинта к дверям Эндерби, полпинты у нижней ступеньки. Молочник ухмыльнулся и дважды цокнул языком. Сколько открытий, столько и предателей. У Эндерби возникла идея.
— Пришлось наверху ночевать, — сообщил он. — Запер дверь от себя самого. В замках что-нибудь понимаете?
— Любовь потешается над слесарями, — сентенциозно заметил молочник. — Только проволочку поищу.
Через минуту пришел почтальон с купонами от «Литтлвудз»[41] наверх, ни с чем для Эндерби.
— Не совсем правильно, — критически объявил он. — Дайте, я попробую. — Тяжело дыша над замком, зондировал, вертел. — Идет, — пропыхтел он. — Полмоментика. — Язычок замка отскочил, Эндерби повернул ручку, дверь открылась.
— Весьма обязан, — сказал он, — вам обоим, джентльмены. — Не радовала его перспектива идти к миссис Мелдрам. Отдал им последнюю медь и вошел.
Ах, какое облегченье — вернуться. Эндерби сорвал с себя пальто, повесил в крошечной прихожей на крючок за левое плечо. Несколько заботливей снял позаимствованный у Арри костюм, аккуратно скатал его в ком. Положил до возврата на неубранную постель, надел свитер с высоким воротом. Вот теперь он одет для работы. Голые ноги прошлепали в гостиную, где сразу почуялось что-то новое. На столе лежало письмо, без штемпеля, а с самого стола были убраны вчерашние грязные утренние тарелки. Пнув электрокамин, Эндерби сел читать, озабоченно хмурясь. Письмо было от миссис Мелдрам.
«Дорогой мистер Э.!
Извините, я в ваше отсутствие огляделась, на что, как домовладелица, полное право имею, в конце концов. Ну, квартиру вы довели до полного безобразия, двух мнений быть не может, ванна полна клочков со стихами, а ванны делаются и устанавливаются вовсе не для того. Ковры тоже не чищены, мне стыдно было б кому-нибудь их показать. Так вот, слова мои по-прежнему в силе, плата с будущего месяца повышается, вам и так посчастливилось долго дешево жить, когда цены везде лезут вверх. Если не желаете, то знаете, что надо делать, у меня есть другие, которые будут дом как следует содержать и ждут не дождутся, чтоб въехать через неделю. А за вами кто-нибудь должен присматривать, скажу, не ошибусь, мужчине в вашем возрасте, с вашим, как вы утверждаете, образованием, неестественно самостоятельно жить, чтоб никто в доме не убирал. Смело скажу, не стану молчать, когда надо громко сказать, вы должны жениться, пока не совсем пропали и погибли, как искренне думают многие, с кем я говорила.
С уважением
У. Мелдрам (миссис)».
Вот как. Эндерби яростно поскреб колено. Вот чего им хочется, да? Эндерби обихожен, посуда как следует вымыта, постель застилается регулярно, ванная — дивный сон с голубенькими занавесками и со щетками для спины, для ногтей, из щетинистого нейлона с пластмассовыми ручками в виде рыбьей чешуи; ванна всегда в ожидании здорового розового купальщика, распевающего сквозь пар ля-ля-ля. А у супруга Эндерби кабинетик-пенал для писания драгоценной поэзии, любимого конька муженька. Нет. Птичьи голоса завелись в голове: призывающие к осторожности голуби, предостерегающие грачи: берегись луговой травы, вдовы. Так, так, так, кричат утки: пей причастие выбора.
— Вот мой выбор, — твердо сказал Эндерби, идя на кухню завтракать (миссис Мелдрам, сука, вымыла его тарелки!) и заваривать мачехин чай. Надо отдать справедливость архетипичной суке, второй жене отца. Она сделала его жизнь несчастной; больше он ни одной женщине не предоставит такой привилегии.
И тем не менее. Тем не менее. Эндерби позавтракал сухим хлебом, клубничным джемом, чаем, потом пошел в рабочую мастерскую. Бумаги лежали нетронутые миссис Мелдрам; стол со специально укороченными ножками ждал его у глубокого пустого сиденья. «Ручной Зверь» медленно рос; томик из пятидесяти стихотворений, запланированный на осень, почти составлен. Первое дело, которое надо убрать с дороги, — сочинение новой любовной лирики из цикла «Арри к Тельме». Эндерби чувствовал себя виноватым за состояние костюма Арри. На коленях необъяснимо собралась грязь, лацкан непомерно запачкан, бритвенно-острые складки разошлись с немыслимой быстротой. Арри необходимо смягчить чем-то поистине ценным. Он жаловался на предметное содержание приношений Эндерби: слишком много кухонных сравнений, слишком косвенная апелляция к ее жестокому сердцу. Арри клятвенно утверждал, что она вслух читала оптовым торговцам автомобилями, и те ухахатывались. Долг Эндерби — написать нечто очень откровенное, нет, не грубое, не подумайте, но понятное, разъясняющее, чем именно Арри с ней хочет заняться, и чтоб она держала его под подушкой и вспыхивала, когда вытаскивает (пропитанное ее запахом). Эндерби думал, сидя на троне, что в закромах подходящее должно найтись. Покопался в ванне, нашел несколько очень ранних лирических стихов. Одно было написано в семнадцать лет. «Музыка сфер», называлось оно.
Вскину скрипку одним взмахом рук,
Так открой же ей слух, и поверь,
Издаст она идеальный звук:
Это звук моей музыки сфер.
Клянусь богом, ни Арн, ни Перселл
Не превзойдут мой пример.
Не требуется ни искусств, ни ремесел,
Чтоб играть мою музыку сфер.
Ценность ее не в безбрежности
С устрашающим дрейфом звездных озер.
В тонкости и немыслимой нежности
Заключается моя музыка сфер.
Сферы, что ее подпитывают,
Посылают мелодию вниз и вверх,
Постоянно безмолвно рассчитывают,
Что услышишь ты музыку сфер.
Опасения, страхи и вечное «нет» —
Это плод твоих девичьих лет.
Зачем дальше хранить глухоты обет?
Посмотри, как поля оживляет цвет!
Вместе с этой землей улучу я момент:
Дай мне аккомпанемент.
Адресованное предполагаемой девственнице, оно явно абсурдно для Тельмы. И не тяжеловат ли сферический образ для предположительно прилично воспитанной барменши? Неприличные шутки в баре одно дело, но неприличная литература, даже самый воображаемый намек на нее, — другое. До сих пор болевший живот это удостоверил.
Семнадцать. Дата сочинения проставлена в конце рукописи. Кому оно написано? Он подумал, почесываясь. И мрачно решил — никому. Но не грезилось ли в том самом романтическом возрасте о неком создании с веткой кипрея, которое, даже будучи бесконечно утонченным, благоухающим сладко, как май, не оскорбится слишком легко поддающимся расшифровке символом домогательства? Он создал в душе образ девушки, как мистический образ Бога, в понятиях, которым она не должна соответствовать, а именно, соответствовавших его мачехе; потом положительный образ родился из длительных размышлений об отрицательных атрибутах. Потом она возникла во сне, тоненькая, смеющаяся, в первую очередь чистая. Не вдова: он отказывался позволять этому образу обретать краски и запахи миссис Бейнбридж.
Вздохнув, Эндерби принялся очень хладнокровно и целенаправленно, как за чистый поэтический экзерсис, писать в высшей степени эротический стих Арри к Тельме, полный бедер, грудей, задохнувшегося желания. Закончил, отложил в сторону, чтоб остыл, и продолжил строительство лабиринта, дома «Ручного Зверя».
2
Вот каков был распорядок обычного дня Эндерби: подъем на рассвете, а может быть, позже, одинаково зимой и летом; завтрак, испражнение, потом работа, которая иногда начиналась собственно при испражнении; в десять пятнадцать он брился, готовился выходить, зачастую с сеткой для покупок; в десять тридцать покидал квартиру, шел к морю, покупал батон, кормил чаек; сразу после пил утреннюю порцию виски со стариками и умирающими, или, если Арри не работал, с Арри в «Гербе масонов»; иногда наносил визит к Арри на кухню, получая от него обрезки для кладовой: индюшачий каркас, куски жирной свинины, кусок бараньей шеи на воскресный обед; потом, по мере надобности, делал покупки — батон для себя, картошка, десяток сигарет, пикули, пирожок с мясом, горчица за четыре пенни; возвращался домой и готовил еду, а когда со вчерашнего дня оставалось что-нибудь холодное, сразу ел и работал во время еды; дремал, сидя на стуле, или даже одетый сворачивался в постели, целенаправленно засыпал. Потом обратно в уборную, к последнему длительному дневному уроку; потом остатки еды или хлеб с каким-нибудь недорогим лакомством; на ночь чашка мачехиного чаю; постель. Никому не мешающий образ жизни. Капризная Муза время от времени нарушала порядок, забрасывая Эндерби стихами — фрагментарными или полностью сформированными, — и тогда среди виски, в постели, готовя, работая над структурой нелирических произведений, он сразу записывал под ее истерическую, хладнокровно пророческую или телеграфную диктовку. Музу он уважал, но капризов боялся: она бывала игривым котенком, тигрицей с выпущенными когтями, сосущим палец слабоумным ребенком или высокомерной богиней в бальном наряде эпохи Регентства, с непредсказуемыми настроениями и посещениями. Другие визитеры были более предсказуемы: диспепсия в разнообразных формах, ветры, икота. В тихие дни в промежутках меж явлениями небесных и земных откровений он жил одиноким и безобидным мужчиной. Письма и визитеры редко толкались в дверь, новости из опасного мира никогда не вторгались. Дивиденды и крошечные гонорары выплачивались прямо в банк, который он посещал лишь раз в месяц, покорно ожидая наличных с чеком, аккуратно выписанным на двадцать с чем-то фунтов, стоя за мытарями с бычьими шеями и аскетическими мясниками, необъяснимо вносившими долго пересчитывавшиеся кучи тусклой меди. Он никому не завидовал, кроме проверенно великих покойников.