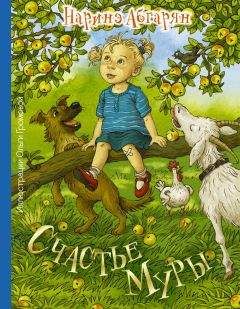Назым Хикмет - Жизнь прекрасна, братец мой
Ахмед не стал спрашивать: «А кем был твой отец? Почему тебя растила только мать? Что случилось с отцом?»
— Не заставляй ее ждать…
— Ухожу, ухожу. Ты бы только видел ее: крохотная, щупленькая…
Ахмед не стал спрашивать: «Откуда она приехала? Чем она сейчас занимается, с кем живет?»
— Она пробудет здесь три-четыре дня. Ты не жди меня, ложись.
— Топай давай!
Измаил сделал то, чего никогда не делал. Он бросился Ахмеду на шею. Они обнялись. Измаил ушел. Ахмед погасил лампу и приоткрыл дверь. Он видит звезды.
Ахмед только сейчас заметил, что он вот уже несколько месяцев ни разу не вспоминал мать. Ему стало грустно. Мать моя прачкой ради меня не стала, не изматывала себя. Но разве я люблю свою мать так, как Измаил? А мать ведь у меня красивая.
— Аннушка, все женщины со стороны моей матери — одна красивее другой.
— Ты, видно, пошел в отца.
— Верно… Сейчас, дай-ка посчитать, матери должно быть около сорока.
Мы греемся на солнце на скамейке у памятника Пушкину на Страстной площади. Воскресный день.
— Как зовут твою маму?
— Гюзиде.
— Гьюзиде?
— Не Гьюзиде, а Гюзиде. У вас всех это «ю» никак не получается.
— А ты «ц» не можешь выговорить!
— Моя мать пишет стихи по-французски.
— Любовные стихи?
— С какой стати?.. Она же замужем. Взрослая женщина.
— Ну и что?
— Как это — ну и что? Кому она должна писать любовные стихи — отцу?
— Почему это отцу?
— А тогда кому?.. Мать любит играть Бетховена на фортепиано. А отец разбирается только в турецкой музыке. Как-то раз в интернате я заболел. Отправили меня в лазарет. Пришла мать. Подняла вуаль. А в комнате были доктор и учитель истории. Я ей говорю: закрой лицо. Я с детства жутко ревновал мать.
Показался секретарь партийной ячейки Петросян. Он был задумчив. Грыз семечки и сплевывал шелуху. Увидел Ахмеда и Аннушку.
— Здравствуйте, ребята. Послушай, Ахмед, мне нужен материал о сегодняшнем состоянии земельной собственности в Турции. Кое-что я нашел, но и у тебя…
— У меня нет материала.
— Ты что, ни разу в Турции не бывал в селах?
— Бывал.
— А в селах что, этим не интересовался?
— Нет.
— И ваша партия ничего не публиковала на эту тему?
— Вряд ли.
Петросян посмотрел на Ахмеда с явным огорчением.
— А ты все-таки расскажи мне, что видел там, в деревнях.
Он дал Аннушке пригоршню семечек. Постоял немного, словно бы собирался что-то еще сказать, а затем ушел. Запел под нос какую-то армянскую песню.
Аннушка сказала:
— Я бы могла влюбиться в этого Петросяна.
— Этого еще не хватало… Почему же ты не влюбилась? Почему могла бы влюбиться? Считаешь его симпатичным? Мужчины, которых женщины считают симпатичными, вовсе не симпатичны, с точки зрения мужчин, а женщины, которых мужчины считают симпатичными, не симпатичны, с точки зрения женщин.
— Я бы могла влюбиться в Петросяна не потому, что он симпатичный, хотя он и на самом деле симпатичный, а потому, что он знает, что ему осталось жить несколько месяцев, и живет себе так, будто не умрет никогда.
— И после его смерти ты бы ни на кого больше не стала смотреть.
— Думаю, что да. Хотя кто знает, все может быть…
Они поднялись. Ахмед спросил:
— Куда мы идем, Аннушка?
— Я иду домой, мне надо постирать.
— Можно мне с тобой?
— Пойдем, если хочешь.
— Пойдем завтра вечером к Мейерхольду?
— Завтра вечером я иду на концерт с Си-я-у.
— А меня вы с собой не возьмете?
— Нет.
— Почему?
— Потому что мы идем вдвоем с Си-я-у.
На полпути Ахмед распрощался с Аннушкой, обронив:
— У меня, оказывается, тоже есть одно дело, только сейчас вспомнил. Наш турецкий ансамбль через неделю выступает на вечере какого-то завода. Уже сейчас нужно репетировать.
* * *
Когда Измаил вернулся, Ахмед уже спал. Раскрылся во сне. Измаил накрыл его одеялом. Зия говорил: «Эх, Измаил, у тебя не мать, а сама сила природы. Не такая огромная и видная, как море, ветер, огонь, а крохотная, как атом, но этот атом — основа всех основ».
Мать Измаила умрет в 1940 году. Есть один надзиратель. Родом из Бурсы. Ярый сторонник немцев. Каждый вечер, сказав на ночь арестантам: «Помогай вам Аллах» — и задвинув снаружи железную задвижку на двери камеры, он открывал волчок и подзывал Измаила: «Поди-ка сюда, уста. Опять Гитлер Лондон пожег. Выиграет немец войну. Так что давай не упрямься, уста. Давай, скажи, что выиграет». — «Не выиграет», — будет отвечать Измаил. «Эх, ну твое дело», — ответит надзиратель, и на следующий вечер у них снова будет повторяться тот же разговор. Так вот, мать Измаила умрет как раз у ног этого надзирателя. В зале свиданий, за решеткой. Крохотная, сморщенная. «Я тебе привезла долмы на оливковом масле, Измаил. Пока везла сюда из Манисы, она немного помялась, угости и эфенди надзирателя, сынок», — скажет она и внезапно рухнет к ногам надзирателя из Бурсы.
Измаил прислушался к гулу водокачки. Что-то барахлит. «Один из поршней сломался», — подумал он. Лег.
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ЧЕРТОЧКА
У меня гости: сидят на полу, на земле, на походных кроватях, на табуретках, а один прислонился спиной к стене рядом со шкафом. Другой слева от двери, стоит. А я стою и слева от двери, и рядом со шкафом, и спиной к стене; и на полу земляном сижу, и на кроватях, и на табуретках; я и хожу по хижине, а горящая на столе керосиновая лампа освещает некоторым лица снизу, некоторым — сверху, а некоторым сбоку. Аннушка то входит, то выходит, не открывая и не закрывая дверь; входит и выходит между камнями стен, через вырытую нами яму, но и ее не открывает и не закрывает и иногда входит и выходит в хижину из стеклянного колпака лампы, рядом с фитилем, иногда даже из самого пламени. Есть среди моих гостей и нежно любимые мною друзья, и те, кто мне противен, но тех, кого бы я назвал врагами, нет. Я никому из них не враг. Я враг тому; кто приказал убить Мустафу Субхи и убил его, я враг эксплуататорских классов, но не только наших, но и всех эксплуататорских классов на земле; а еще враг фашистов, империалистов, женщины, ранившей Ленина, Колчака, Деникина, большеглазого белокурого офицера, убившего Аннушкиного отца, правых социал-демократов, греческого короля Константина и министра Аверофа, греческой армии, которая сожгла Измир, флота оккупационных держав, мимо серого стального носа которого мы проплыли, когда бежали из Стамбула в Анатолию. Вот, пожалуй, и все. Может быть, я кого-то забыл. Больше ни к кому я вражды не испытываю, кроме еще, пожалуй, «Суда независимости», который арестовывал наших и разыскивает меня. Да, все, кого я перечислил, мне — враги, по крайней мере те, кто про меня знает. Хотя, конечно, большинству империалистов обо мне неизвестно. Признаюсь, среди моих врагов есть и такие, которые стали ими ни с того ни с сего. Почему? Как говорит Аннушка, так бывает. Некоторые люди считают меня своим врагом, хотя я к ним вражды не чувствую. Странно, когда знаешь, что человек тебе враг, но не испытываешь к нему вражды, иногда даже убеждаешь себя: «Я тоже должен быть ему врагом», — однако через некоторое время об этом забываешь. Это странное чувство, хотя слово «странное» его не передает.
Итак, у меня гости: все знакомые мне города, и даже те, о которых я знаю по картинам и из книг, все городки, все горные дороги, леса, улицы, ночи, дни. Речушка с форелью в деревне Кирезли, стамбульская бухта Каламыш, Тверская улица в Москве, вымощенная торцами,[35] кофейня «Айналы» в Болу — с большим зеркалом. В зеркале, что передо мной, я вижу свое отражение. Совсем как в зеркале у дяди Шюкрю-бея в тот день, когда я прибыл в Измир, только я без усов, на голове у меня огромная островерхая папаха, бакенбарды у меня отросли ниже ушей, брови сдвинуты, и я отдал бы все на свете, чтобы выглядеть лет на десять постарше. В зеркале я вижу: на меня смотрит — и как смотрит! — подлец с подведенными сурьмой глазами, окладистой бородой и в белой чалме, расшитой желтым шелком. Я обернулся. Он осклабился. Я бросил в него стакан с чаем, стоявший передо мной. После этого меня прозвали в Болу «Сумасшедший учитель». Полагаю, из-за этого мой авторитет возрос еще немного. У Джевата нет окладистой бороды, нет расшитой шелком чалмы, и он не мужеложник, но есть в нем что-то, что напоминает подлеца из Болу. Рыжеволосый Рашид, народный комиссар просвещения в Аджарии, был актером-любителем, а Джеват был актером профессиональным. И очень гордится этим. Не знаю, как он оказался в России. Работает в ЧК. Как он поступил в ЧК, не знаю. Я для него — враг. Почему? Не знаю. Мы пьем пиво. В пивной на Арбате мы с товарищами, я рассказываю Петросяну о деревеньках Болу. Джеват пришел, сел за наш стол. Пьяный. Какое-то время слушал меня. «Послушай, — сказал он потом, — ты — шпион Мустафы Кемаля. У нас есть на тебя дело. Твоя жизнь — в моих руках. А душа у тебя — ровно на одну пулю». Не успел я ответить, как Петросян сказал ему: «Убирайся, пьяный бродяга!» — и притом не крикнул, а почти прошептал и, взяв Джевата под руку, вывел его на улицу и вернулся. «Революция, — сказал он, — поднимает такие волны на море, вызывает такой ураган, что водоросли со дна тоже поднимаются на поверхность и засоряют наш порт». Три дня спустя я встретил Джевата перед кинотеатром «Шануар». Он пожал мне руку, похлопал меня по плечу. «Я напишу пьесу, — сказал он, — поставлю ее тоже сам, а вы ее сыграете». Джевату я враг. Но я не испытываю к нему вражды. Я испытываю к нему отвращение. Для меня вражда — важное, серьезное чувство, которое не стоит просто так растрачивать.