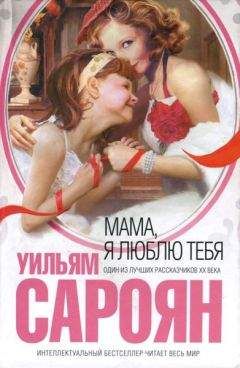Галина Щербакова - Кто из вас генерал, девочки?
За что мы вспарывали тогда руку? Чтоб не носить горбы, не быть привязанными лодками? Бритва была тупой, кровь настоящей, а клятву пришлось порвать. Ищи – не найдешь следа под локтем… Так за что же мы вспарывали руку?
– Ладно, девчонки, – сказала Нелка. – Я пошла. Пойду уговаривать маму переехать ко мне. Устала я это делать. А она упрямится…
– Иди, куриный революционер, – говорит Лелька. – И ешь полезную птицу.
– Теперь буду, – смеется Нелка. – Я сегодня разговелась. Тетя Фрида! – кричит она. – Дядя Фима! Я ухожу.
Они выходят на крыльцо. И Рива выплывает тоже.
– Неля, – говорит она. – Ты стала большим человеком. Скажи, будет война или нет?
– Не будет, – отвечает Нелка. – Не бойтесь.
– Я тебе верю, – Рива произносит это торжественно. – Теперь я буду спокойна за Леву.
Лелька фыркает.
Нелка целует Риткиных стариков, Риву не целует, а просто, как маленькую, гладит по голове.
– Скажи ей, пусть сходит в райком, – кричит Лелька.
– Никуда не ходите, – говорит Нелка. – Подымите Левку сами.
– Я пойду к людям стирать белье, – гордо говорит Рива.
– Брось, тетка, – Ритка обнимает Нелку, и мы все идем к старенькому столбу.
Нелка целует меня, Ритку, а Лелькину голову прижимает к груди и держит.
– Лелька, – говорит она. – Тридцать семь – это двадцать плюс семнадцать. Не хорони себя. Ну плюнь на эти две неудачные цифры и приезжай ко мне. Не в столицу зову, но в своем городе я шишка, куриный революционер. Поищем, посмотрим, подвигаем мебель вместе.
Лелька трясет головой. То ли – да, да, приеду. То ли – нет, нет, никогда…
Нелка уходит от нас, прямая спина, длинные ноги, не оглядывается, не машет рукой. Я бы оглядывалась. Я бы махала. Может, в этом наше главное, кардинальное различие. Для меня всегда важно, что позади, я вся из своего прошлого, из своего вчера – как речка из истока. А она не оглядывается… Ей это мешало бы… А Лелька застыла, закаменела. Думает о чем-то…
Мы не успели отойти от столба, подъехал Игося. Вот и встретились. Он кивнул Ритке, по мне прошелся взором и не узнал.
– Это же Лина! Лина! Из нашей школы! – кричала Лелька.
Игося непонимающе шевельнул обтянутыми красной трикотажной рубашкой плечами – не помню, мол, не знаю, не видел. Мало ли кто учился в нашей школе? Лелька усаживалась в машину, а он смотрел сквозь меня, подлый Игося, с липкими, цепкими руками. Ладно! Давай не узнавать друг друга. Может, это самое правильное – забыть арбуз с фиолетовыми чернилами. Ну что он мне дался? Чего я всю жизнь отплевываюсь? Почему я не могу уйти с прямой спиной, не оглядываясь? Вперед, вперед! Почему мне надо быть рекой, вытекающей из истока, в котором все: и шевелючие губы Варвары, и ее топтание по нашим душам, и этот чертов Игося, которому я несла тяжеленную посылку, и мой разлюбезный Олег, оставивший меня «на двух ногах», – почему я помню это? Лелька протягивает мне из окошка машины руку, и я жму ее.
– Я наболтала вам лишнего, – говорит она. – Жизнь есть жизнь. Она всякая… А двадцать плюс семнадцать – это реникса. Так не бывает.
Игося нежно приподнял машину с тормозов, и они поехали. Лелька, не оборачиваясь, махала нам с Риткой своей загорелой красивой рукой.
– Везет же людям, – крикнула с крыльца Рива, – только птичьего молока нет. И муж у нее такой представительный, сразу видно, положительный человек.
– По чему видно? – спросила Ритка.
– Я прекрасно разбираюсь в мужчинах, – важно ответила Рива. – Я их вижу насквозь.
– Мне тоже надо идти, – говорю я.
– Это было как в сказке. Вы все вместе. Мне снилась кровь. Мама сказала – к родственникам. А вы ведь больше. Этого мне надолго хватит – думать и вспоминать, вспоминать и думать.
Мы прощаемся у того же столба. И я ухожу, как и должна уходить, – пятясь. Я машу им руками до тех пор, пока дом 1974 года не заслоняет от меня жилкооп двадцать девятого. И иду медленно, потому что от выпитого вина у меня стучит в висках: никуда не денешься – наследственная гипертония. Это не страшно. Выпью таблетки, и все пройдет. Вот только лихо перемахнуть через заборчик мне уже не удастся. Ну что ж… Мне больше и не надо. Могу пройти и степенно. Возле дома ходит Андрей и грызет травинку. В глазах гнев и слезы.
– Ну знаешь! – говорит он возмущенно. Потом тянет носом и уже весело спрашивает: – Да ты никак клюкнула?
Я прикладываю палец к губам – молчи. Он подмигивает. Ему уже весело, он уже забыл свой гнев на меня, кошку, бродящую саму по себе.
– Потом, – говорю я ему, – все расскажу.
Он доволен страшно: тайна. Он будет ждать чего-то «такого», ведь мама у него совсем, совсем непьющая. И если уж… Ничего «такого» не будет. Я ему расскажу про нашу встречу и спрошу: почему, сын, я всегда ухожу, оглядываясь? Почему мне важно видеть, что я оставляю за собой, какие глаза мне смотрят вслед? Андрюшка любит такие вопросы. Он мне долго-долго будет все разобъяснять, потому что хоть мама у него и хорошая учительница, но все-таки она женщина… Валяй, сынок, я тебя послушаю! Все-таки мне действительно интересно: почему я оглядываюсь?
– Ну, – спрашивает меня мама. – Видела наш центр? Как фонтан? Плюется?
1966–1974