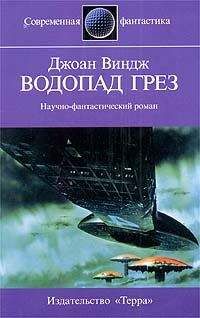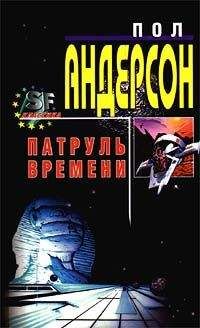Филип Рот - По наследству. Подлинная история
— Еще бы я не знал. Ящик для пожертвований. Где, по-твоему, я вырос, в Монтане?
— Ну так вот. Ал осмотрелся и говорит учительнице, а голос у него трубный: «Если тут покрасят стены, я положу десять центов в пшику». Учительница не знала, что такое пишка, ну и выставила его из класса. Так он перешел в мой класс, и я сразу понял, что он из себя представляет, и сделал его казначеем. Ну а я был президентом. В школе на Тринадцатой авеню. Бог ты мой, а вот и она, моя школа.
Мейерсон — Дэвид Крон заверил меня, что он считается одним из лучших нейрохирургов Джерси, — невидный, рыхлый мужчина слегка за сорок, с мягкими манерами, с ходу располагал к себе. Сев за стол, он обратил взгляд на меня и спросил, какие вопросы я хотел бы ему задать. Я указал на отца: он сидел донельзя мрачный в кресле между Лил — доктор именовал ее «миссис Рот» — и старшей медсестрой — нам сказали, что она обычно присутствует на предоперационных консультациях.
— Вопросы хочет задать мой отец, — сказал я. — Ну же, папа. Спрашивай доктора обо всем, что хочешь узнать.
Я велел отцу записать вопросы касательно операции, которыми он закидывал меня последние несколько дней, и взять этот список с собой на консультацию. Отец вывел карандашом вопросы безыскусным размашистым почерком не слишком грамотного человека, все существительные написал с большой буквы, но всё, за исключением одного-двух слов, правильно. Перед отъездом он показал мне список, и я подумал: «Я хочу этот список. Списка и бритвенной кружки с меня хватит».
Отец вынул из кармана разлинованный лист бумаги и расправил на колене.
— Вопрос первый, — начал он. — В чем заключается операция? — и вскинул глаза на Мейерсона. — Простите, доктор, но я полный невежда.
Мейерсон завел руку за спину и достал с полки, на одном конце которой были небрежно свалены медицинские книги, раскрашенный пластмассовый муляжик мозга и черепа. Поворачивая его так и сяк и тыча карандашом, он объяснял, где находится опухоль и где она сдавливает мозг. Показал, где произведет на задней стенке черепа разрез, через который извлечет опухоль.
— Мы слегка приподнимем мозг вот здесь вот и удалим то, что под ним наросло.
Услышав, что он «приподнимет» мозг отца, я испытал шок. Я не верил, что такая процедура может пройти для мозга бесследно. И, насколько мне известно, так оно и было.
— Какой инструмент вы для этого используете? — спросил отец. — Производства «Дженерал электрик» или «Блэк энд Деккер»[27]?
Отец казался таким дряхлым и подавленным, что его язвительность — свидетельство неподдельного мужества — меня поразила.
Ответ доктора свидетельствовал — в свою очередь — о его неподдельном хладнокровии.
— Инструмент выпускают хирургические фирмы.
— Второй вопрос. Опухоль вырастет снова?
— В конечном счете это не исключено, — сказал Мейерсон. Теперь и в его голосе сквозила язвительность, впрочем, еле заметная. — Может быть, лет через десять-пятнадцать нам придется повторить операцию.
На это отец ответствовал неспешным кивком.
— Третий вопрос, — сказал он, снова сверившись со списком. — Операция очень болезненная?
— Нет, не очень, — сказал Мейерсон. — Но послеоперационный период крайне тяжелый. У вас поднимется температура. Вы ослабеете.
Сестра Мейерсона, худощавая живая дама средних лет, в обычной городской одежде, такая же приятная и обходительная, как Мейерсон, сочувственно положила руку на руку отца и сказала:
— Мы постараемся привести вас в порядок как можно скорее — дней через пять-шесть вы уже будете сидеть.
В ответ отец лишь буркнул:
— Господи ты Боже мой! — Пять, а то и шесть дней он не сможет поднять голову с подушки — вот когда он понял, что его ждет, если не понял до этого. Но виду не подал, перешел к четвертому вопросу. — Сколько длится операция?
— От восьми до десяти часов, — ответил Мейерсон.
Отец не дрогнул, чего нельзя сказать обо мне. От восьми до десяти часов, затем от пяти до шести дней, и что с ним станется после этого? А после нищего детства и оборванной учебы, после того, как потерпел крах его обувной магазин и магазин замороженных продуктов, после тех невероятных усилий, с какими он пробился в менеджеры «Метрополитен» при их-то процентной норме для евреев, после того, как многие из тех, кого он любил, — его братья Моррис, Чарли и Мильтон в двадцатые-тридцатые годы, племянница Джанетт и племянник Дэвид в ранней молодости, любимая невестка Этель в сороковые годы, — умерли до времени, после всего, что он пережил и после чего выжил, не ожесточившись, не сломавшись, не отчаявшись, еще и операция на восемь-десять часов, не чересчур ли?
Должен же быть предел?
Ответ был — да; безусловно — да; тысячу раз — да, это уж слишком. На вопрос: «Должен же быть предел?» — ответ был: предела нет.
— Большая часть времени, — объяснил Мейерсон, — уйдет на то, чтобы добраться до опухоли. Дальше все зависит от того, какого характера опухоль. В этом месте девяносто пять-девяносто восемь процентов опухолей доброкачественные. И, как правило, кровоточат не сильно. Если все же из-за характера опухоли кровотечение будет сильным, операция затянется.
А мой несгибаемый отец — никогда еще он не вызывал у меня такого восхищения — продолжал:
— Пятый вопрос. После операции мне придется учиться ходить заново?
— Да, — сказал Мейерсон.
И тут-то, а ведь мне казалось: я ясно представляю себе, что нас ожидает, я понял, что ужас этот до конца не осознал, — куда там.
— Да, — сказал Мейерсон. — Это не исключено.
У отца в списке осталось еще пять вопросов, но даже ему с лихвой хватило того, что мы узнали. Отец сунул список обратно в карман, посмотрел на Мейерсона в упор и сказал:
— Да, я-таки имею проблему.
— Таки имеете, — подтвердил Мейерсон.
На этот раз мы ехали по пришедшему в разруху Ньюарку в молчании. Отец уже задал все возможные вопросы, исчерпал воспоминания детства, усовершенствовать Лил у него и то не было сил: мы думали лишь о фразах, которыми отец с Мейерсоном обменялись на прощание, и больше ни о чем думать не могли. Мейерсон согласился, что нам следует проконсультироваться с еще одним нейрохирургом, хотя не сомневался, что второй врач подтвердит его выводы, и мы решимся делать операцию в университетской клинике, поэтому посоветовал нам не медлить, а ориентировочно выбрать первый же свободный день в его расписании. День этот пришелся на седьмую годовщину смерти моей матери.
Когда мы приехали, Лил прошла в кухоньку — разогреть на обед банку кэмбелловского супа[28]. Отец пошел вслед за ней — достать тарелки и накрыть на стол в столовой, я сидел в гостиной, пытаясь представить, как это Мейерсон сможет приподнять мозг отца, не повредив его. «Должен же быть какой-то способ», — думал я.
Я услышал, как отец говорит: «Возьми банку снизу», — судя по всему, Лил открывала банку консервным ножом, прикрепленным к стене около раковины.
— Я что — не умею открыть банку супа? — сказала она.
— Ты держишь ее неправильно.
— Герман, оставь меня в покое. Я держу ее правильно.
— Сказано же тебе, и почему бы не делать так, как сказано? Ты держишь ее неправильно. Возьми ее снизу.
А в гостиной я изо всех сил сдерживался, чтобы не крикнуть: «Идиот, ты на пороге смерти, да пусть ее открывает банку, как хочет», — и в то же время говорил себе: «Оно конечно. Как открыть банку супа. О чем же еще сейчас думать? Что, кроме этого, имеет значение? Что, как не это, помогло ему продержаться восемьдесят шесть лет и что, как не это, скорее всего, поможет продержаться и теперь. Возьми банку снизу, Лил, он говорит дело».
И опять он раскипятился — на этот раз из-за того, так или не так Лил разогревает суп. Накрыв стол на троих, он вернулся в кухоньку — торчал около плиты у нее над душой. Она твердила, что суп еще не разогрелся, он твердил, что давным-давно разогрелся: целый день что ли нужно разогревать банку овощного супа? И так повторилось раза четыре, пока терпение отца, если только к нему применимо это слово, не лопнуло и он, схватив кастрюлю, оставил Лил у плиты ни с чем, ринулся в столовую, разлил суп по тарелкам, по столу, на салфетки. Зрение у него было плохое, и, надо надеяться, он не видел, какую грязь развел.
Суп был холодный. Но ни я, ни Лил не упомянули об этом. Сам же он, скорее всего, ничего не заметил.
Посреди этого безмолвного обеда он, как бы походя, сказал: «Дело идет к концу», — продолжая тем не менее отправлять суп ложка за ложкой в съехавший на сторону рот, пока не опустошил тарелку и не изукрасил рубашку пятнами — можно подумать, он ее разрисовывал супом.
Когда я собрался ехать в Нью-Йорк, он удалился в спальню и принес оттуда сверток. Обернутый в два бумажных пакета, обвязанный лентами скотча, перекрученными как нити ДНК. Упаковка выдавала его авторство, да и руку его я узнал — на верхнем пакете маркером кривыми заглавными буквами было надписано «От отца сыну».