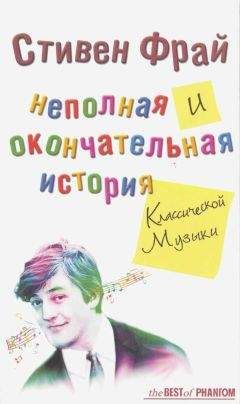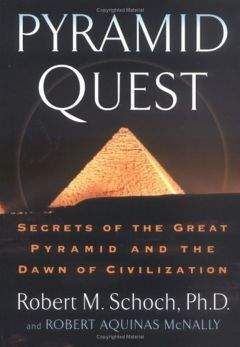Элайза Грэнвилл - Гретель и тьма
Когда ведьма просыпается, она заставляет меня упражняться в письме, а сама болтает со своими подругами. Мне все равно. Когда вырасту, я стану знаменитым писателем, как Кэрролл Льюис или Элли Франкен
Баум, но девочки в моих книгах будут путешественницами, станут водить самолеты и сражаться в битвах, а не играть в норах с белыми кроликами или плясать по кирпичным дорожкам с дурацким пугалом и человеком из металла. После обеда ведьма дает мне маленький квадратик льна с напечатанным рисунком и разноцветные шелковые нитки.
– Давай, Криста. – Она вдевает нитку в иголку и показывает мне, как гладкими маленькими стежками вышивать лепесточки. – Вышивать красивое – хороший способ времяпрепровождения для юных дам.
– Не хочу. – Стискиваю кулаки.
– Надо.
– Нет. – Рука ее стискивает палку, но сейчас-то я наготове. Убираюсь в другой угол комнаты. – Вы меня не заставите.
Урсель, зайдя собрать тарелки, цокает языком.
– Теперь вы понимаете, что Эльке приходилось терпеть. Это не просто непослушание. Никакого уважения. Никакого умения вести себя в обществе. Не представляю, о чем думает ее папаша. – Она понижает голос до шепота: – Если она не исправится, не удивлюсь, коли это созданье кончит с черным Winkel24. — Обе смотрят на меня.
– Не при таком отце, – бормочет фрау Швиттер.
– Это верно, – соглашается Урсель, сгребая мой размазанный пирог, – но он-то не вечный. Придется ей рано или поздно вырасти. А если нет…
– За деньги, что он мне платит, – шепчет старая ведьма, покосившись на меня, словно бы удостоверяясь, что я не слушаю, – она может проказничать сколько влезет. Чем хуже она себя ведет, тем больше я могу просить плату, и потому, что до меня, то в ближайшие недели пусть хоть с самим дьяволом пляшет, если желает. – Пожимает плечами. – Ее будущее меня не касается.
Я достаю свой альбом и до самого прихода папы рисую безобразных старых ведьм, которые падают с метел и разбиваются вдребезги. У всех у них Winkel — здоровенные черные лычки, как у солдат, но прямо на лицах. Я на рисунках тоже есть – улыбаюсь и очень хорошо себя веду им назло. Когда фрау Швиттер хочет посмотреть, чем я занимаюсь, я кладу черный карандаш на бок и закрашиваю все наглухо, делаю ночь, оставляю место лишь для одной большой желтой звезды. Пою ей «Мигай, мигай», и ей очень нравится:
Funkel, funkel, kleiner Stern,
Ach wie bist du mir so fern,
Wunderschon und unbekannt,
Wie ein strahlend Diamant25,
Ты мигай, звезда ночная!
Где ты, кто ты – я не знаю.
Папа трет руки так сильно, что пальцы у него – как сырые красные Bregenwursf. Я по-прежнему с ним не разговариваю, но помогаю Лотти передать полотенце. Он усаживается и прикрывает рукой глаза, попивает липовый отвар от головной боли, а я тем временем лежу на полу и рассматриваю картинки в «Der Ratten-fänger von Hameln», особенно те, где крысы кусают детей и делают себе гнезда в воскресных мужских шляпах. У многих девочек длинные желтые волосы, как у меня. И только добравшись до последней страницы, где почти все дети исчезают внутри горы, я замечаю, что мальчик, который остался, – с темными волосами, как Даниил. Я гляжу на папу так пристально, что он убирает ладонь с глаз. [49]
– Что вы сделали с Даниилом?
– Даниил – это кто? – спрашивает он устало.
– Мой новый друг.
Папа вздыхает.
– Иди сюда, Криста. – Он протягивает руку. Но я не пойду. – Ладно, – говорит он и трет костяшками виски. Посидев еще, отпирает маленький буфет и наливает себе в стакан что-то, похожее на воду.
Я вижу, что ему не хочется разговаривать с Йоханной, но она все равно приходит. Сегодня у нее губы блестят алым. На ней голубое платье в цветочек и туфли на очень высоких каблуках.
– Рада, что тебе нравится книжка, Криста. Смотри, что еще я тебе принесла. – Она шарит в кармане и достает ярко-красный мячик, показывает папе и лишь потом отдает мне. – Я, конечно же, проследила, чтоб его хорошенько помыли.
– Очень предусмотрительно, – говорит папа. – Криста, что нужно сказать?
– А он скачет?
– Да. – Йоханна улыбается и пытается погладить меня по голове, но я шустро уворачиваюсь. – Может, пойдешь во двор поиграть?
– Погоди, Криста. – Папа качает головой и добавляет: – У нас тут кое-какие трудности. За ней лучше приглядывать.
Я бросаю мячик в стенку и делаю вид, что не слышу, когда он просит меня прекратить.
– Можем посидеть снаружи, – предлагает Йоханна. – Там приятный вечер. Криста побегает и поиграет, а мы поговорим.
Папа опять вздыхает, но идет за нами на улицу. Садится, смотрит на руки. Йоханна говорит и за себя, и за него и все время его трогает – то тут погладит, то там.
Раньше я иногда слышала, что она ревет, как Грет, когда мясник притаскивал старое мясо, но сегодня голос у нее мягкий, почти милый. Она все говорит и говорит, время от времени поглядывая на меня, а папа сжимается на скамейке, молчит. Наконец Йоханна раскуривает сигару и откидывается на спинку, выдувает дымные колечки. Она заходит в дом, когда папа решает, что меня пора укладывать.
– Давай я тебя причешу, Криста.
Руки у нее крупные и неуклюжие, но я по-прежнему держусь за красный мяч и, пока она меня расплетает, скриплю зубами, а не ору.
– Прекрасные, прекрасные волосы, – говорит Йоханна и берется за щетку. – Посмотри на них, Конрад, блестят, как золото.
– У мамы были такие же. – На миг щетка замирает. У Йоханны волосы волнистые и тусклые, как коврик у черного хода.
– Как славно, – произносит она. – Почти как настоящая семья. Приду утром и заплету тебя, Криста.
Папа настораживается.
– Очень любезно, Йоханна, однако не обязательно.
– Мне совсем не трудно.
Меня отправляют в кровать, но я крадусь обратно – послушать. Йоханна опять говорит и говорит, но смысла в ее словах чуть. Я гляжу в щелочку и вижу, что папа сидит, спрятав голову в ладони.
– Ты не должен в одиночку нести это бремя, Конрад. Разумеется, будь мы женаты, то была бы наша тайна. Мы вместе могли бы защитить ее. Никто никогда не узнает. Передалась ли эта… кхм… особенность по наследству или нет – ребенку нужна мать, ты сам видишь.
– Лидия не была сумасшедшей, – возражает папа. – Нечего тут передавать по наследству. Роды были трудные, и она от них так и не оправилась. И, знаешь ли, она художник, домашняя жизнь была не для нее. Я виноват. Слишком увлекся работой. Если бы не…
– Так ли это воспримут окружающие? – Йоханна смотрит на часы. – Уже поздно. Мне пора, не то пойдут пересуды. – Тут она смеется. – Подумай над моими словами. До завтра.
Папа моет руки красной краской. За ним – Йоханна, держит что-то, и у нее изо рта течет алое…
Я просыпаюсь, крича, и бегу к папе. Он держит бутылку воды из буфета, который всегда на замке. Глаза у него странные.
– Папа! Папа!
– Что случилось, Криста? Тебе надо быть в кровати и спать.
– Что вы сделали с Даниилом?
– Кто этот Даниил?
– Мой друг. Я тебе говорила про него. Я видела тебя. Я видела…
– Хватит орать. – Он пьет прямо из бутылки. – Ничего я не делал с Даниилом. В лазарете нет мальчиков. То, что ты видела, это просто… как ты их называешь? А, да, зверолюди. Они, считай, не люди. Нам так сказали. Они кролики, Криста, króliki, Kaninchen, lapins… просто кролики.
– Нет. Нет. Нет. – Я стискиваю кулаки. Он дурак, его хочется стукнуть. – Нет. У кроликов маленькие ножки.
– Я все это делаю, чтобы тебя сберечь, Криста. Поэтому мы сюда и приехали. А теперь иди спать.
– Где Даниил?
Но глаза у папы закрыты. Бутылка с водой пуста, она выскальзывает у него из пальцев.
– Это надо сделать, – говорит он. – Нам нужно понимать, что возможно с научной точки зрения. – Он продолжает говорить, но не со мной: – Лидия была права: давно уезжать нужно было, пока имелась возможность. Может, и сейчас сумеем, если все проделать быстро и тихо. Куда-нибудь в тихое мирное место. Далеко.
– Я знаю еще одну сказку, – шепчет Грет, – про злого великана, который отрезал мальчику ножки и варил их себе на обед, со вкусными волшебными бобами. У него была арфа, он на ней играл сам себе, а еще кладка яиц от золотой гусыни. В этой сказке есть принцесса. Веди себя хорошо, и тогда в конце все наладится: мальчик убьет великана, отрастит себе новые ноги и станет жить-поживать да добра наживать. – Она высыпает корзину Stangenbohnen, длинной зеленой вьющейся фасоли, на стол и хватается за нож. – Хочешь узнать, что дальше, – давай-ка доедай завтрак.
– Не буду.
– Ты разве не хочешь узнать, чем дело кончилось?