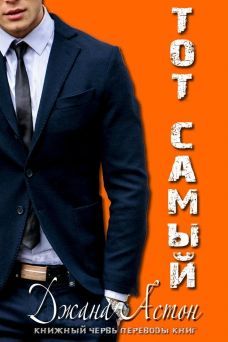Владимир Личутин - Сон золотой (книга переживаний)
После войны, когда до вдовьего сердца дошло окончательно, что ждать уже некого, что надо свой век самой устраивать, а плоть земная укорливая, привередливая, ей тоже сладенького хочется, и по ночам выказывает она себя во всю нутряную силу, – и вот выплакавшись в подушку в последний раз и, оставив за чертой прежнюю жизнь с благоверным, бабеня невольно начинает зыркать взглядом по встречным-поперечным, высматривать мужичонку пусть и завалящего иль занятого и многодетного, смущать его, подвигать хоть бы на разговленье, на один утешливый часок, а там, как Бог даст: кому краюха с маслом приведется, а кому житняя черствая кроха на один зубок.
И вот помню, что «сколотные», «байстрюки», «выблядки», стали рожаться в нашем околотке, как грибы после дождя, почитай через дом. Но к ним никакого небрежения не было, как и к матерям их, ребятишки были нашего, русского племени, и росли для будущей русской дружины, для общего, государственного делания. И грубоватая приговорка: «Отцов, как псов, а мать родна – одна», вдруг не то чтобы померкла, но повернулась вдруг неожиданной, благодарной стороною. Когда молодые мужики остались в окопах, то «Счастливцевым», вернувшимся с фронта, и тыловикам невольно пришлось заменять «Несчастливцевых», и неожиданно «плодильная сила» человека оказалась для государства в особой цене. Как бы вдруг по всей России, даже в самых-то ее затерянных окрайках, был открыт второй фронт по восполнению русского племени. Теперь за свободного, что в силе, мужичонку женщины порою и поленьями дирывались и платье в лоскуты полосовали. Любви вдовице хотелось сильнее, чем хлеба. И невольно позабывалось, что ребенок не только счастие, но и ярмо добровольное, его с плеч не скинешь, как беремя сена, а надо тащить на себе до скончания жизни. (Вот так и в нашей семье через десять лет после ухода отца в армию появился братик Вася.)
Я и поныне помню, как одноногий мужичонко, запрягши сельповскую иль колхозную лошаденку, отправлялся через болота на далекую Пыю в березовые древние ворги, стоящие по берегам тундровой речонки, и там, напластав дровишек, дырявя культей снежную целину, умудрялся за зиму через семь потов потихоньку наставить на своем дворе морошково-желтые поленницы березняка на зависть одиноким бабехам. А вдовице никто лошаденки не пожалует, это тебе не прежняя деревня, когда весь мир за сиротею с дитешонками стоял и не давал ей во гноище упасть и потерять добрый разум. Вот и изворачивайся, баба, из кулька да в рогожку. Как мыша домашняя, вытягивайся, родимая, в нитку, суйся в каждое место за прожитком, чтобы сохранить детям здоровье.
Ведь зима на северах бесконечная, обжорная, и если снега завьют в феврале, так до апрельских оттаек, если морозы уставятся на рождество, так до майских подвижек реки. «Май – коню сена дай, а сам на печку полезай». Но как вдовице быть, если и матерый-то мужичище весь отпуск отводил на заготовку: измочалится, задымеет, замглится лицом, почернеет и ссохнется, пока-то вытащит на горку дрова... А маме приходилось истопку покупать (ну сажень-другую), на большее, пожалуй, не оторвать с куцей зарплаты. Остальное промышляй, баба, сама, если хочешь выжить; хорошо коли ребятки уже подгадали летами и могут топор держать в руках.
Помню, топоришко – тоже вдовья забота, за ним по соседям не пойдешь, надо свой иметь, а плотницкий топор нужен вострый, прикладистый к руке, иначе над одной деревиной ладони искровянишь и слезами обольешься. Потому топорище – первое, что я, еще ребенок, смастерил из березового полена, зачистил осколком стекла; причудливое получилось изделие, изгибистое, фасонистое, заковыристое без нужды, но к ладони прилегало без особой косины и ковыряния. В этом ремесле тоже свой опыт нужен, чтобы топор не клевал на сторону, чтобы его не кривило, когда бревно кантуешь, щепу гонишь; и насадить надо было ладно и плотно, чтобы жало топора стекало в одну линию с осью рукояти. Мне нравилась моя первая работа, но, увы, у топорища жизнь короткая, его быстро исхлещешь, если рука вдовья иль мальчишеская. Ну, а ежли топорище сам умудрился смастерить, значит ты мужик уже полноценный, хозяин, есть на кого матери опереться. Это как бы первый жизненный урок. С этого времени и в работы можно наниматься. Ведь иной человеченко до конца жизни своей топорища не вырубит, а значит руки у него «не к тому месту пришиты».
Лезо топора я направил у соседей Шавриных на большом круглом точиле с корытцем для воды. Тот камень ломали на Зимнем берегу, а после развозили по всему Поморью. На круге правили не только топоры и ножы, но и косы. На севере их не отбивали на наковаленке.
И вот топоришко у нас заимелся, уж не сказать, чтобы очень приемистый, но из бабьих рук не выпадал, тем более, что мама с детских лет осенями работала на сплаве, а зимой в лесу на валке, где девушек заставляли «карнать» сучья... Надо сказать, работа эта сатанинская, стожильная, и мужик, даже самый дюжий и зараженный на работу, скоро уставал от ее монотонности и надсадности. Но считалось, что русская баба все стерпит, да и кто услышит ее скрытый сердечный воп! Разве что подушка, ночная подружка. Поползай-ка по пояс в снегу на морозе среди сваленных елин и сосен, как бы нарочито вдруг павших поперек, да к тому же с хищно распростертыми во все стороны лапами, когда каждая норовит тебе подставить подножку, зацепить за подол, да потяпай-ка топором сучья до измору с раннего утра, когда еще солнце не взошло, и до вечерних густых сумерек, когда Лопатина твоя – холщевая юбчонка и подергушка на вате – окостенеют на морозе, станут, как железный негнучий панцырь, волосы от пота собьются в колтун, и в каждую-то щелку навьется снега, и каждая телесная жилка стоскнется от стужи. Так что маме лесной труд был невдиво; но ведь прежде она была молодая, здоровая, телом налитая, как нетель, кровь с молоком, нервы-веревки, и глубокий сон за ночь даже в шалаше, на комарах, восстанавливал угасшие силы.
Да, на северах народ издревле бился за каждую дровину, но родину не хулил и не ударялся в бега в лихое время, чтобы спасти свою шкуренку. Каждый клоч поморской земли был отмечен мужицкой вешкой, – крестом ли оветным, могильным гурием, рыбацким становьем, избушкой зверобоя, Волочком, сельцом и погостом, церковкой на гляде у моря и прозвищем-приговорищем, чтобы ведали иноплеменники и не покушались на чужой каравай, – что и здесь, в этой глухой стороне, на тыщи верст земля вековечно наша, русская.
Городок Мезень, стиснутый болотами, вытянулся по угору версты на две; внизу под горою по самую реку поскотина, заливные луга, а чуть левее – калтусина, сырь, дудки-падранки и осотник, бочажник и кочкарник, где сам черт ногу сломит, самые неудоби, поросшие чернолесьем: ольхой и ивняком. Здесь-то, в засторонке от города, и была, как бы самим Господом отведенная вдовам, сиротская деляна, где бабы-колотухи зимами заготовляли дровье. По теплой погоде туда не пройдешь, под рыхлой переновой долго пучится темная глухая вода. Ждали, когда мороз крепкий перепадет и снегу поднавалит, чтобы сухой ногой попасть в калтуса.
Вот и самая пора приспела. На горке у дома пусто, обжорная печка все дрова приела, нечем ей ненасытное пузцо набить да и нас обогреть. Поневоле сряжаемся мы с матушкой за истопкой. Санки-чунки наготове, обледенелые скрипучие, с ободранными о дрожные клочи полозьями и поистертыми копыльями. Незавидные, надо сказать, санешки, но без никуда на северах. Уже по первому снегу, чтобы не переться к роднику с ведрами, ставишь на чунки ушат, – и за водицей. А водица та хоть и из гремучего хрустального родника, бьющего из камешника, но живет далеконько, в подугорье, надо всю Чупровскую улицу пройти, руки оттянет у мальца, не раз отдохнешь в дороге. И вот ушат на санках – спасение и ликование детской душе. Притянешь ко крыльцу, вставишь в ушки ушата долгое коромысло и с матерью затащишь в сени, – тут тебе, братец, самое место. За ночь-то вода оденеться в броню и поутру, чтобы умыться, бьешь ее наотмашь ковшиком, так что разлетается в стороны ледяное крошево. И невольно хватишь глоток «холодянки», и аж дыханье перехватит, и зубы заломит, а по черевам прокатится со щемью живая вода, дар от матери-сырой земли. (Это в нынешних воспоминаниях лирический окрас переживаний, с некоторой сентиментальностью, а тогда чувства охватывали первобытные, звериные, без психологических тонкостей, но ощущение щенячьего восторга, не выразимое словами, было.)
Санки, прислоненные к стене, ждут на улице. Топор – всегда готов, штанишонки внапуск на подшитые катанки, чтобы не набилось снегу, у матери длинная холщевая юбка, почтовая тужурка, низко напущенный на брови шерстяной плат, туго сведенный в нитку рот, страдальческие морщины в углах рта, в серых глазах сизая мгла. Когда нет на лице улыбки, мама кажется мне старухой. (А ей всего лишь лет тридцать пять.) Она только что с работы, ей бы перевести дыханье, да после спроворить ужну для детей, а она, вот, впрягайся в веревочные постромки, и как подневольная лошадь, ступай исполнять очередное послушание. А сумерки зимою напускаются на городишко рано, багровой краскою измазывается запад с противного берега реки, где неровно громоздятся синие ельники, а за ними без конца-края замерли в ожидании ночи волчьи болота. И к нашей избе с тылу тоже приступают тундры, зимой, заметенные снегами, особенно немилостивые, и среди кустарника – еры вместе с куропатками и горносталями поскакивают нетерпеливые бесы, дуют, гнусавые, в кулак и ведут с путником недобрые игры. С северо-востока тянет «хивус», суровый ветер-полуночник, к морозной ночи он окрепнет, и когда придет пора возвращаться в домы, станет жарить нам в лицо.