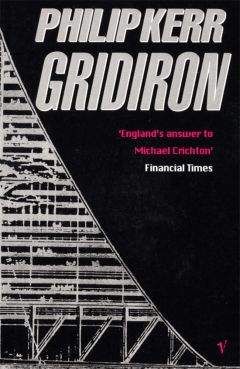Арман Лану - Свидание в Брюгге
— Ничем серьезным вы никогда не болели?
«Это же допрос, — думал Робер, — допрос, учиненный судебным следователем, полицейским. Но этот странный полицейский — физиолог и психиатр». Стало быть, мир медицины сродни тому, что рисовался воображению Кафки, где человек всегда выступает в роли обвиняемого, довольного своей ролью, ибо Ван Вельде испытывал явное удовольствие, отвечая на вопросы.
— О нет, дохтор. Я крепок, как дуб!
В доказательство чего он выпятил плоскую грудь и, согнув руку в локте, напружинил свои жидкие мышцы, трепыхавшиеся, как желе, под серой рубахой. Из-под маски взрослого, с помятым, плохо выбритым лицом, вдруг выглянул хвастливый мальчишка, мальчишка, уже познавший порок. Особенно выделялись губы, толстые и рыхлые, грязно-серого цвета, как лягушачья кожа.
— А уж как дрова рублю! У-ух! У-ух! Топором! Загляденье! Другого такого в деревне не сыщете! Одним топором управляюся! Без пилы! Раз, раз!
В глазах загорелся мрачный огонь, насчет природы которого двух мнений быть не могло.
— Я сильный, как турок, да вот падучая!
— Да, мосье, — прервал больного Оливье, обращаясь к главврачу. — В истории болезни записано. Эпилепсия.
— Так вот почему у него оказался под рукой фенобарбитал. Понятно.
Полицейская анкета: постепенно звенья прилаживались друг к другу. Но так же, как и все остальное, она не распутала клубка, несмотря на усердие следователя. А следователь рассмеялся и осторожно двинулся дальше.
— У меня мелькнула презабавная мысль, мосье Ван Вельде, — сказал он так, словно бы сам понимал всю нелепость своей мысли.
Робер отметил про себя, что он сделал упор на слове «мосье».
— Презабавная мысль. Вот когда вы рубите дрова, вы ни о ком не думаете, а?
Подвижное до этого лицо Ван Вельде застыло.
— А? Ну о ком-нибудь из вашей семьи?
Ван Вельде отвел глаза под испытующим взглядом медика. Врач тут же перевел разговор на другое.
— Ну хорошо, хорошо. Это так, только мысли. Мало ли что придет в голову, правда ведь? Итак, во время войны ничего больше не было, кроме этой недельной лихорадки?
Ван Вельде с радостью кинулся прочь от неприятной темы:
— О, до того как я стал солдатом, попадал в разные истории, как многие парни.
— Так, так. Расскажите-ка!
— Ну, я провел полтора года в профилактории при шахтах в Вёль-ле-Роз. Но тогда я себя чувствовал нормально. Я гулял на берегу моря, купался, собирал ракушки.
Ему гораздо больше нравилось говорить о Вёль-ле-Роз, чем о том, какие мысли приходили ему в голову, когда он рубил дрова.
— Но не думайте, меня все равно признали пригодным, я служил!
Врач поднялся.
— И годным для любви? — подсказал он.
Немного застыдившись, Ван Вельде захихикал, польщенный.
— Какой у вас рост? Вы знаете свой рост?
— Метр семьдесят, када комиссовался, дохтор; правда, товарищи насмехались надо мной, что, мол…
— Ваш вес?
Главврач прервал поток откровенностей. Эгпарс был целомудрен.
— Прошлым летом я весил семьдесят одно кило…
— Снимите рубашку.
Он обнажил свою хилую, ввалившуюся от перенесенного в детстве рахита грудь и, стараясь не шевелиться, часто задышал.
— Совсем разденьтесь!
Ван Вельде повиновался, испытывая неловкость и смущение раздетого человека перед одетыми людьми. Тело его было откровенно безобразным: острые выступающие ключицы, вздутый живот, запавшие бедра, узловатые колени и грязные ноги. Особенно неприятным был цвет кожи, серо-желтый.
У Робера к горлу подступила тошнота; ему открылось не только отвратительное зрелище, но что-то гораздо большее: вот она какова, действительность. Когда человека раздевают. Потому что на него обрушилась беда. Ему приказывают, и он повинуется. Человек показывает свою наготу. Когда Робер делал передачи, он считал для себя обязательным быть как можно ближе к жизни. Так вот она, эта жизнь, удручающая своим непоправимым уродством, потому что этот зеленокожий недоносок и есть жизнь.
Главврач вооружился каучуковым молоточком, заставил пациента положить ногу на ногу. Эгпарс ударил молоточком по коленке. Немного помедлив, нога дернулась. Эгпарс ударил снова На этот раз реакции почти не было. Робер плохо разбирался в подобных вещах, но он понял, что эта пониженная реакция — плохой признак.
Потом Эгпарс очень долго выслушивал сердце больного. Его лицо стало озабоченным, даже печальным, по нему прошла тень тревоги. Санитар принес аппарат для измерения давления. Ван Вельде дрожал. Он был весь во власти страха, который имел отношение к чему-то страшному, который заставлял его думать, когда он рубил дрова, о ком-то, о ком-то вполне определенном. И эти страшные мысли внушали отвращение.
Ван Вельде протянул руку. Оливье хотел взять аппарат, но Эгпарс остановил его. Он закрепил манжетку, накачал грушу и, глядя на шкалу, бесстрастно произнес:
— Десять, шесть.
Оливье присвистнул. Маловато.
— Ложитесь.
Ван Вельде повиновался. Он не протестовал: он находился под магическим действием производимых над ним манипуляций.
— Это очень серьезно, дохтор? — наконец выговорил он.
Эгпарс звонко рассмеялся.
— Вы только послушайте, — обратился он к Роберу. — Хорош гусь! Сам собрался отравиться, а теперь беспокоится о своем здоровье! Шутник вы, мосье Ван Вельде!
Ван Вельде насупился, огрызнулся:
— Это не одно и то же! Да, дохтор, вовсе не одно и то же.
Он силился объясниться, но слова не шли на язык. От огорчения он махнул рукой.
— Понимаю, понимаю, — участливо сказал Эгпарс. — Успокойтесь.
Оливье тоже понимал. И Робер пережил то же смятение, что и человек, не сумевший объяснить, почему можно страстно желать умереть утром, а вечером с беспокойством осведомляться, не слишком ли серьезны последствия содеянного им.
— А вы не глупы, мосье Ван Вельде, — продолжал главврач спустя некоторое время.
Ван Вельде просиял. Комплименты приятно щекотали его самолюбие.
— Если б меня не заставляли ходить на свеклу и для других там работ, када я еще бегал в школу, я б выдержал экзамены. Учитель сам говорил отцу, што я бы мог получить свидетельство! — И тихо добавил, как бы для самого себя: — Мать очень хотела, штоб я получил этот документ.
— А в детстве и юношестве вы болели чем-нибудь, кроме… одним словом я не имею в виду Вёль-ле-Роз?
— Да, конечно, скарлатиной, например. Тогда меня не заставляли работать. Лежу себе и слушаю, как внизу пыхтит кофе. Все чегой-то там делают, а мне хоть бы хны.
Да, Ван Вельде был счастлив и тогда, когда болел скарлатиной, и тогда, в Вёль-ле-Роз. Он был счастлив всякий раз, как ему удавалось спрятаться от жизни.
— Я вижу по записям, что вы здесь уже не в первый раз?
— Да, дохтор.
— Вероятно, это бывало в мое отсутствие и вас здесь долго не держали. А вы не помните, что с вами было?
— Само собой. Припадки у мене. Сюзи хорошо за мной ухаживала. Она неплохая, Сюзи…
— Но вы… вы подолгу не задерживались в больнице?. Всего несколько дней, да?
— Да, недолго.
— Прекрасно. Ваша профессия?
— Я мойщик посуды в отеле Осборн, в Остенде. Там платят больше, чем во Франции.
— Но по документам вы электрик. Это действительно так?
Ван Вельде забеспокоился. Вопрос не понравился ему. Глаза опять забегали.
— Дак ведь безработица, — прошептали его отвратительно мягкие синеватые губы.
Эгпарс бросил красноречивый взгляд на своего помощника. Итак, ярко выраженное пристрастие к алкоголю и не менее выраженное отвращение к постоянному труду!
— Идиосинкразия к работе, — сказал Оливье.
Ван Вельде догадался по тону, что о нем отозвались отнюдь не лестно. Он, действительно, не глуп, этот неудавшийся самоубийца. Пожалуй, даже слишком себе на уме. Но он все более становился антипатичен Роберу Друэну, хотя Робер и не мог бы сказать — почему.
Время ползло медленно, не так, как в Париже и на телевидении, время давало себе время не спеша оглядеться вокруг.
Эгпарс как будто бы не придерживался какой-то определенной методы. Он действовал интуитивно, в зависимости от реакции больного. Затуманенному сознанию больного противостояла логика, опыт и страстный исследовательский поиск врача-практика. Врач и больной осторожно сучили нить разговора, примеряясь к словам, сталкивая их и роняя.
— Так вы были на войне?
— Да.
— Ну конечно, конечно, — спохватывался добродушный следователь. — Вы же нам говорили.
— Да, я был на войне.
В голосе прозвучал вызов.
Эта уже знакомая Роберу перемена в доведении больного произвела на него крайне неприятное впечатление. При слове «война» Ван Вельде преобразился. Дряблая кожа на шее разгладилась; он посуровел, лицо стало жестким, как у воина, готового выйти навстречу опасности. Видно было, что нервы у него напряжены до предела. Он вновь обрел тело, вес, силу.