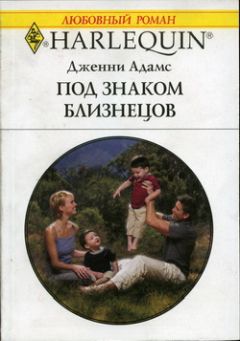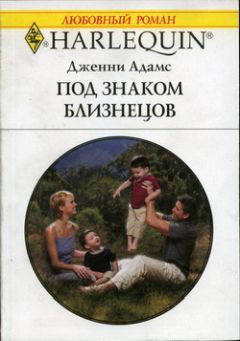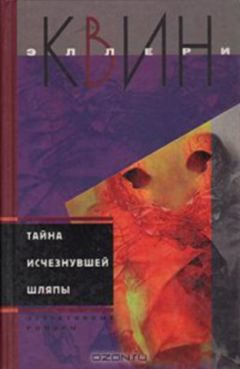Демьян Кудрявцев - Близнецы
Вторым, сидевшим спиной к углу, был легенда контрразведки, мертворожденный Илюша Сац, которого якобы откачала повитуха РККА, но на самом деле он был упырь, что пережил болезни и голод только злобой и от тоски, а на кожу, в мятую складку тряпки, вокруг леденцовых его зрачков, жизни не доставало. Именно он задавал вопросы и ответы запоминал. Все трое – а третьим был дед Ефим, по такому поводу снявший маску чуть помешанного жида – не любили себя доверять бумаге, полагаясь на память.
Тогда дед нас сумел прикрыть. Контрразведка отстала. Не было доказательств. Не было повода, смысла, цели посылать близнецов за рубеж туда, сами не знают еще куда, отнесите то, неизвестно что, и не пробуйте возвращаться. С одной стороны, не бывает, что вокруг сумасшедшего старика, одного из немногих реальных профи, эксперта по нелегалке на Ближнем Востоке, сама по себе начинается кутерьма: скрытая съемка, цыгане, воры, пожары, голуби, полный бред… А с другой стороны, ну кому это на хрен надо? Просто дернули пацаны кочевать с цыганом, бежать призыва, пялить девок, шабашить дач – через месяц они найдутся, ориентировку пошлем ментам, самое большее, через пару, попадутся на воровстве.
Суд закончился к январю. Григорий Васильич Слабый и подчинявшиеся ему Гаврилов, Яковлев, Кузнецов, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов Украинской ССР Прохоренко, Лифшиц,
Ананьев, Вязьмин были признаны виновными и надежно приговорены к от семи до двенадцати лет лишений с отбыванием срока в колониях неласкового режима. Директор рыболовецкого совхоза Пашин и главный бухгалтер предприятия Люда Винник сели порознь на два года, хотя у них были общие дети, прижитые на работе, но суд этих тонкостей не учел. Еще с десятку-другому людей – грузчиков, табельщиц, продавщиц
– присудили по году дурной погоды и, когда они возвратились в город, снова приняли их назад, на те же должности в том же виде, с прибавкой жалованья за стаж.
1977
Глупости это все. Я и сам отсидел однажды в не самой главной из страшных тюрем и точно помню, как было там, в холодном изоляторе нелюбви, где главным становится чувство времени, темного, как смола, и липкого, как надежда. Время – шаг на краю скалы, откуда некуда, высоко, а сзади – насыпь по валунам – пирамиды былого. И еще ночью, когда не спишь, и ужас газом сжимает горло, и нужно двинуться, побежать, проверить, все ли на месте в доме, в темном зеркале не узнать перекошенный страхом мальчиший облик…
А до того как сидеть в тюрьме, я восемь лет продержался в коме, ненавидя гроб неподъемной туши, лежал, полностью недвижим, в целлофане капельниц и червей, но время шло для меня, точнее, время двигалось сквозь меня, замирая на колышках кардиограммы под уколами школьницы-медсестры, – он ничего не боится, Лиззи, этот парень не чувствует ничего, бери за локоть, давай повыше, здесь, и медленно отпускай.
А остриженный на халяву, с лицом без всякого выражения, отсидевший двенадцать лет за хищенья в особо крупных, и что вкуснее – в особо хищных, некто без имени Кузнецов, живший с нами на двух соседних – убей, не вспомню названий – улицах, вернулся осенью в городок. Он устроился на работу в котельную на угле, на углу Матросова и
Зеленой, где, измазанные асбестом, глухо охали саркофаги и копченая груша казенной лампы тлела под потолком.
Ошибка (которую склонен совершить каждый следователь, по замечанию величайшего из них) – полагать, что вся наша жизнь и хроника преступлений основаны на ровном, постоянном потоке причин и следствий, несущем нас к океану смерти. Это, полковник, увы, не так.
Единственным мотивом убийства – три ножевых в область дрожащего живота, которыми наградил нашего отчима Кузнецов в темной рамке входной двери – стала глупая летка-енка с мягким акцентом советской польки из приемника на столе.
Отчим умер в своей постели, до которой с трудом дополз. Мама выкинула матрац – он так набух почерневшей кровью, что весил столько же, сколько труп.
Кузнецова арестовали. И даже когда ему вбили в лоб – перемазанный изумрудом – пулю – грохот на весь подвал, я не вынырнул, было рано, мне, не первому блину ком, оставалось лежать пятилетку дней в сером корпусе лазарета, в центре Лондона, сам культя.
Глава 4
Палома Мария Эсмеральда Гомес была поздней дочерью второго секретаря колумбийского посольства в Мадриде, отпрыска старых военных кланов, считавших свои колена от закованных в латы поверх чулок испанских головорезов, разбогатевших только в начале века на Фруктовой
Компании (что нетрудно) и сохранивших премного денег (что уже труднее) большой ценою экспорта капитала и самих наследников за границу.
Испания Франко не предполагала особых дипломатических задач – не будучи ни союзником, ни игроком на европейском поле, она по-прежнему относилась к Латинской Америке, как к своей. Любые активные действия посольства не испугали бы местных, но сильно бы удивили, любая инициатива была не то чтобы очень опасна, но абсолютно бессмысленна, плюс жара, усталость поздних пятидесятых, терпкого бархата вкус вина под тонкую сигарилью, присланную из дома, – именно это ее отец называл “укреплением наших связей”, больше всего между тем боясь быть отозванным из Мадрида, предпочитая унылое спокойствие чужого фашизма родной демократической violencia.
1953
Сиротой в полном смысле дурного слова девочка не была. Ее мать, до замужества прима театра, оперная певица, всю жизнь мечтавшая променять родину на Европу, успела все же до родов дать пару сольных концертов на новом месте, но после выхода из больницы с тихим свертком наперевес ей пришлось запереться дома: послеродовая депрессия, черная, как мантилья, сожгла ей голос до самых связок и волосы до корней.
Не желая показываться на людях, постаревшая за год на десять лет, и так не совсем молодая мама возненавидела мужа, дочь, свет, процеженный через ставни, и только скорость, а также страсть, с которой она тонула в безумии по ночам, хватая потной рукою воздух, разбрасывая белье, спасли семейство от суицида – скоро даже такое усилие стало слишком разумным и очень сложным, а приходящий к обедам врач давал свои порошки и россыпи витаминного алфавита уже не столько самой больной, сколько всем остальным домашним – отцу, дворецкому, pa’peque?ita, “а это – слугам”, включая нянь.
To make long story – short, а дорогу – наоборот, длиннее, несколько санитаров, такой высоты, что тени изгибались на потолке в ритме дрожащей от страха свечки, вынесли в клеточке пледа мать на продавленное сиденье посольского лимузина, и сам второй секретарь сошел в надвинутом на уши темном фетре и сел, рассматривая жену. В его взгляде была и забота тоже, и талая нежность забытых Анд, куда он возил ее на повозке, запряженной парой ослиц, – накануне войны, чей картавый грохот пронесся над океаном, разошелся громом у них в горах и спустился вниз падежом и порчей напуганного скота.
Но шире всего у него в глазах плещется облегченье. Машина отчаливает, урча, по дороге на Барселону, где уже готовится в долгий путь трехэтажный увалень трансатлантик “Хосе Мария Кордова”. Выбор моря, отказ от небесных трасс был сделан не только по сумме и разнице прозаических поводов, как то: четыре кованых чемодана грузного перевеса, необходимость заплыть в Каракас, где управляющий ждет бумаг, – но и вежливой памятью прошлых страхов, ничтожных ныне перед ужасами безумья, но столь дорогих унылому сердцу секретаря, – его жена боялась летать и прежде, с той самой поры, когда, еще девочкой, видела смерть Гарделя в последнем танго горящих пар самолетных крыльев в медельинском аэропорту.
1983
К черту, к лешему, что тянуть? Палома – сумма моих зверьков: кобылица, гончая, медвежонок, – погибла в Ливане, в городе Бейрут, где сразу слышится слово “бей” и действие “забирать”. Она не умела читать кириллицу и говорила совсем коряво, хотя училась весьма старательно, особенно в пару последних лет. Она даже съездила до
Москвы на Олимпийские Игрища и привезла мне смешные кадры, снятые на бегу. Сидя на тумбочке возле моей кровати, качая ногами (когда я упал лежать – кроссовки только входили в моду) и с хрустом грызя советскую карамель, она говорила со мной по-русски, надеясь, что это меня проймет, но я тогда ничего не слышал.
Я не слышал, не видел, не знал того, как она по соседству со мной взрослела. Как покрывалась первой искрой морщин кожа вокруг го(во!)рящих глазок. И паспорт (в нем – половина бритвы, нитка, иголка, помятый бакс) полон штампами разных азбук, жил в кармане ее штанов – никогда не знаешь, куда полетишь наутро.
Я не видел стопок ее статей, которые складывала сиделка, ее репортажей из Эль-Паис, интервью с бойцами Бригадас Рохас, я не слышал ее приходящей пьяной, с терпким вкусом чужого паха на поблескивающих губах. Моя ревность тоже лежала в коме, между горлом и языком.