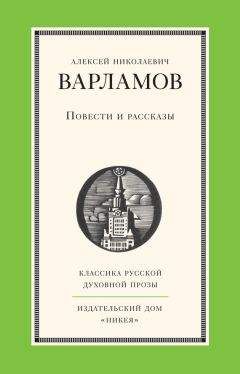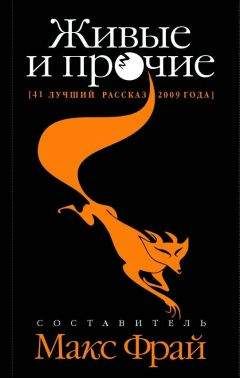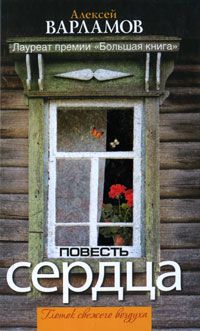Алексей Варламов - Купавна
Он и на рынках не любил ничего покупать, ни одной взятки никому в жизни не дал, был по-своему человеком уникальным и внесоветским, ибо ни капли цинизма, ни просто здравомыслия и нормальной изворотливости, с какой купавинцы не только свое недвижимое имущество, но и самостийность обороняли от налетчиков, не имел, и, хотя Хрущева недолюбливал и в редкие минуты вольнодумства рассуждал, что двадцатый съезд надо было провести иначе, никогда бы не пришло ему в голову подобно своей бесподобной теще дерзко заявить уполномоченным лицам, пришедшим взыскивать за неисполнение указа об излишках садовой жилплощади:
– У меня одно строение. А у моего соседа – два. Вот когда он свой дом поломает, тогда и я террасу снесу.
И никогда бы не догадался он нахально и с сознанием правоты и силы ответить, как ответил опричникам сосед:
– Не знаю, какой из домов сносить, больший или меньший, а потому оставлю пока все как есть.
Эти от них отвязались, а тут как раз Октябрьский, одна тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года исторический пленум подоспел, и так отстояла свое богатство дачная, читай, та же мужицко-помещичья Русь, изгнанная из усадеб и подворий и вернувшая их в виде садовых участков, и вообще не дала себя погубить комиссарам, безумцам и ловкачам, противопоставляя им сметливость, живучесть и хитрость. Только у отца-то ничего подобного этим самым насущным для советской жизни качествам не оказалось, и, не будь он окружен такими практичными людьми, как
Колюнина бабка, а в особенности матушка, его от жизненных потрясений уберегавшая, ушел бы, наверное, гораздо раньше.
Но когда настала эпоха, подобного рода людям противопоказанная, и, человек чести, он физически не смог больше жить, когда дал трещину окружавший его невидимый маленький купол и, кто знает, быть может, добавила яду в его чистую душу история с наследованием Купавны и в середине засушливого мая последнего коммунистического года папа умер, оставив детям и жене последнюю загадку, знал или нет он о неизбежной и близкой смерти и о чем одинокими больничными ночами думал, мама, пуще всего на свете истеричным, судорожным страхом боявшаяся увидеть мужа мертвым, проснулась в утро похорон оттого, что, не веривший в бессмертие души, он пришел к ней во сне и сказал:
– Не бойся, я что-нибудь придумаю.
В Боткинской больнице гроб, где лежал в костюме совсем чужой нарядный человек – так сильно изменили его измученное стремительной болезнью лицо умелые санитары, вынесли из морга и поместили в похоронный автобус, стали рассаживаться по машинам, и в этой суматохе мама затерялась. Те, кто ехал в автобусе, думали, что она в машине, а ехавшие в машине, что в автобусе, и лишь когда через полтора часа, проторчав в пробках, добрались до далекого и непрестижного Домодедовского кладбища, обнаружилось, что ее нигде нет.
На громадном погосте, на котором не было у них никакой ни родни, ни старой могилы и ничто не объединяло отца с похороненными накануне, в тот самый или на следующий день людьми, – ни одна вера, ни судьба, ни кровь – ничто, кроме общей или близкой даты смерти, – на погосте была своя очередь, а среди хоронивших – несколько ответственных людей, которые, как водится, торопились.
Посовещавшись, ждать вдову не стали.
Пролетали низко над головой самолеты, не обремененный собственным гардеробом бесчувственный Колюня с заплаканной сестрой шел сразу за гробом в другом отцовском потертом и просторном костюме, нести тело ему не разрешили, сославшись на неведомый и нелепый обычай, и, если бы он мог в ту минуту о чем-то думать и вспоминать, то припомнил бы далекий жаркий летний день, похоронную процессию в деревне за однопутной железной дорогой, вороватых пацанов в чужих пиджаках, с дикими, блуждающими глазами и самого папу, что сидел на кровати мальчика далеким солнечным утром, когда Колюня проснулся свободным. Не было только оркестра с душераздирающей музыкой, на мотив которой в школьные годы по-дурацки пели “Ту-сто четыре самый лучший самолет” или “В сельском хозяйстве у нас большой подъем”, и напрасно предлагали услуги родственникам и сослуживцам покойного в меру деловитые и скорбные музыканты.
Взрослые люди молча шли по границе уже возделанной и еще не тронутой могильщиками земли, пересекая ее каждый в свой черед, и была опять совсем рядом эта сгустившаяся смертная субстанция, однако Колюня больше не боялся ее. Он признал ее право на существование в земном мире под гулом приземлявшихся самолетов, она забирала всех уставших шагать по сухой дороге, словно невидимая карета “скорой помощи”, и, пожалуй, сильнее поразило его своей бессмысленностью и уродством, как днем раньше в загсе, где молодой наследник оформлял свидетельство о смерти, хорошо одетая женщина средних лет взяла у него аккуратный отцовский паспорт, на глазах разорвала и выкинула в мусорную корзину.
Когда над разверстой землей были произнесены все начальственные речи и с особой торжественностью отмечено, что некролог об отце с названием его подлинной должности появился в двух центральных газетах, а прежде такого не бывало и цензоры покидали мир втайне, как разведчики или ведущие инженеры военных заводов, а потом каждый из провожавших бросил в яму горсть рыжей почвы, – показалась вдали мать, которую вела под руку ее подруга и домашний врач Ольга Петровна, на окраине покрывшегося несмотря на засуху молодой и упругой травой кладбищенского поля уже высился свежий могильный холм, усыпанный цветами с обрубленными стеблями, на которые вдова и упала, и безумные глаза успокоились, и разгладились искаженные черты лица.
Все произошло, как она хотела, или же он сумел отблагодарить ее за тридцать лет и три года общей жизни, во всем был свой умысел, ничего просто так не делалось – это-то Колюня ведал и немножко научился распознавать. И так они жили и жили, а потом умирали, желая или не желая, зная или не зная, подозревая или нет, что он сызмальства, ни на минуту не останавливаясь, за ними наблюдает и по-своему безжалостно, как только умеют дети, судит, а потом станет лепить из них образы, домысливая, дописывая их судьбы, ничего не забывая и не прощая, но ведь никому и не мстя, не затеняя смыслов и не роняя намеков, а просто слушая и записывая, что невнятно и сбивчиво рассказывает жизнь. И среди этого рассказа не забудет упомянуть, как однажды, когда на даче было очень много народу и его положили спать на улице между двумя дядьями, испытал такое острое счастье от причастности к гордому и беспечному мужскому миру, какого отец дать Колюне не мог, хотя был душевно богаче, умнее и красивее, но выпадали минуты, когда мальчик не просто его любил или же им гордился и чувствовал с ним кровную связь, но сталкивался с необходимостью выбирать и защищать его образ, однако никто этого не поймет, и они зачем-то станут обижаться – словно племяннику просто хотелось свести запоздалые счеты или больше не о чем было вспоминать.
Но ведь он и так многого не касался, а только скользил по поверхности, не оставляя следов и понимая, что самой страшной силой, которая им двигала, могла быть или любовь, или воздаяние: он мог расправиться с каждым из своих обидчиков и возблагодарить заступников, имел над всеми власть, хотя и не знал, кто и за какие заслуги, как привилегию или как бремя, эту власть ему дал.
2
Но что может быть глупее, чем использовать ее во зло, огорчая имевших несчастье окружать его очень хороших и добрых, так любимых им в детстве людей? И не следует ли считать тайным стимулом в разговоре с сопротивляющейся, не желающей облекаться в слова, теряющей при этом запахи, звуки и радиацию жизнью вовсе не запоздалую страсть к сведению счетов, не отмщение за детское поругание замечательной учительнице, научившей говорить его на чужом языке так, что, хотя никто больше мальчика иноземному наречию не учил, много лет спустя позабытые слова всплыли в памяти, и взъерошенный Колюня читал на птичьем языке лекции в далеких городах и университетах, не укор родителям за то, что не так воспитывали и обрекли на вечное ученичество и бескрылый реализм и, наконец, не попытку вытребовать у Первомайского суда изменить решение по вопросу о Купавне, а единственное стремление уйти как можно дальше назад и любовно, в самых мелких деталях и подробностях продлить существование падающего в небытие, истлевающего в старых фотографиях, незамысловатых корявых стихах, пожелтевших письмах и неверной памяти? В ней сохранилось, что у них, единственных из дачников на зеленой улице, в ту пору имелся телевизорик с Т-образной антенной на крыше, и по вечерам в большую комнату собирались соседи со всей улицы. К радости и гордости гостеприимной бабушки они рассаживались на стулья, табуретки и кровать, тушили свет и, вглядываясь в маленький черно-белый экран, смотрели “Щит и меч”,
“Девять дней одного года”, “Майора Вихря” или “Войну и мир”, а позднее “Семнадцать мгновений весны”, эстрадные концерты, КВНы, пока их не прикрыли, и чемпионаты мира по футболу, в том числе и тот, на котором наши в четвертьфинале продули Уругваю из-за подлой, намеренной судейской ошибки.