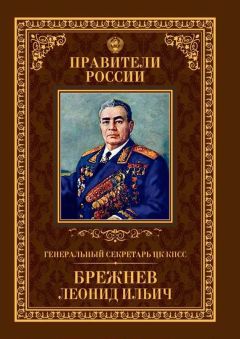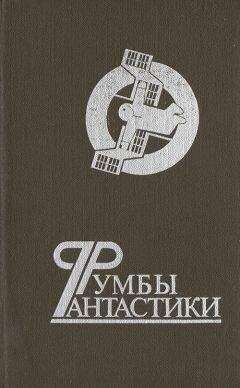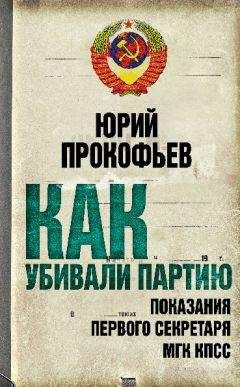Габриэль Витткоп - Хемлок, или яды
Когда Маргарита не принимала гостей, она сидела в маленькой угловой гостиной с гризайлями на стенах, где изображались времена года в виде гарпий. Весна, юная гарпия с еще плоской грудью, выступала из-под молодой листвы с веточкой в зубах, а громадные когти наполовину были заслонены испанскими ирисами на переднем плане. Летняя гарпия, в индийской тиаре и пышной мантии из ястребиного оперения, восседала на балюстраде отяжелевшего от плодов сада. Пьяная Осень простирала раскинутые крылья над чертополохом и виноградниками. А изголодавшаяся и покрытая сыпью зимняя старуха-гарпия дрожала под сухим деревом над скелетом козленка, на фоне пустынного пейзажа. Наконец, над желтым шелковым диваном, из тондо[61] в эбеновой рамке выступало объемное лицо украшенной драгоценностями гарпии с торчащим хохолком. Под взором этих вечных матерей, способных внезапно унести душу, точно факел, Маргарита любила усаживаться поудобнее на желтом диване, всегда с какой-нибудь книгой, а рядом нередко стояла бутылка неббиоло, чей поблекший от возраста рубиновый цвет приобретал золотистый оттенок сухих роз. Она жила здесь вместе с вдовой торговца шерстью, убитого четыре месяца тому разбойниками на дороге в Витербо, - молодой женщиной с каштановыми волосами, которая, улыбаясь, прикрывала рот рукой.
— Вот письмо, - сказала Коломба Де Сантис.
«...И если ты хочешь получить ребенка - моего ребенка - в целости и сохранности, тебе отдадут его в корзинке, на память обо мне, на память обо мне... Он прибудет в октябре...»
— Какой скверный слог, - воскликнула Маргарита, - но какая трогательная гордость и какая простодушная вера!.. Этот ребенок станет нашим, а этот дом - его домом. Напиши сейчас же, дорогая Коломба, вот только...
Она вдруг запнулась: приличия не позволяли спросить, кто же отец ребенка, который с первыми туманами должен родиться в этом орлином гнезде.
В орлином гнезде страх разоблачения сводил Беатриче с ума всего пару часов, после чего она приняла решение, написала и отправила письмо. И хотя ни на секунду не могла вообразить, что Коломба откажет, полученный ответ наполнил ее бескрайним счастьем. Не выдавая свой секрет Олимпио, Беатриче стала проявлять холодность, причин которой тот не понимал и, поскольку это задевало его самолюбие, сурово осудил Беатриче и даже начал относиться к ней с тайным презрением, смутной неприязнью. По правде говоря, он больше не казался ей таким привлекательным, как во время рассказов о битве при Лепанто, и внезапно вспыхнувшая страсть вскоре угасла от пресыщения. Ведь, оставаясь внешне прежней, Беатриче менялась, точно деревья в годичном круговороте.
Бóльшую часть лета она просидела между пищалями на раскаленной от солнца пьяцце - наедине с собой и с тем, что росло у нее внутри.
— А ты изменилась, - говорила порой донна Лукреция, когда они вместе ужинали.
— Да неужто? - наигранно удивлялась Беатриче, полагая, что надежно спряталась под длинным выступающим корсетом и полушариями просторных юбок. Она беспокоилась лишь о том, чтобы в нужный момент найти помощницу. Присматривалась к служанкам: эта чересчур болтлива, а та слишком молода, эта нерасторопна, а та - трусиха.
Наконец решив, что лучше доверить тайну старухе, которой уже недолго доведется ее хранить, Беатриче остановила выбор на Джерониме, хорошо разбиравшейся в вопросах рождения и смерти, умевшей как принять роды, так и похоронить покойника. Джеронима выслушала Беатриче, не переставая ощипывать курицу и не выказав ни малейшего удивления. С тех пор старуха ежедневно поила ее смягчающим отваром из льняного семени, а кроме того посоветовала молиться святой Агате и дала образок святой Маргариты, который следовало приложить к животу при первых же схватках.
— Вот мы и подготовились, донна Беатриче, ни один хитрец не догадается. Я отвезу ребенка в Борго-Сан-Пьетро - у моей сестры там постоялый двор.
— Я поеду с тобой.
Старуха попыталась ее отговорить, втолковывая, что необходимо под каким-нибудь предлогом оставаться в постели, дабы не вызвать подозрений, но Беатриче не желала ничего слышать: она тоже прибудет в Борго-Сан-Пьетро, куда за ребенком приедет Коломба.
— Как вам угодно, - вздохнула Джеронима, — и как будет угодно Господу, но вначале придется пару дней прятать дитя.
Однажды вечером, когда октябрьский ветер тряс ставнями, а между рваными тучами катилась луна, Беатриче почувствовала, что подошел ее срок. Она встала из-за стола, где они ужинали просяной похлебкой, любуясь сарабандой Смерти, и отправилась за Джеронимой. Вдвоем они побрели в дальнюю комнату старинных казематов, откуда не доносилось ни звука. Джеронима заранее принесла туда тюфяк и белье, а также веревку, чтобы привязать запястья донны Беатриче к крюку в стене. Старуха напоила девушку снадобьем, вставила ей в рот кляп, а затем принялась накладывать припарки да вытирать липкие выделения из напряженного, готового лопнуть живота, попутно бормоча молитву к святой Маргарите. Свеча отбрасывала на стену уродливые тени.
От страха перехватывало горло и скручивало кишки, по всему телу пробегали резкие спазмы неописуемой боли, обжигающее страдание ослепляло, как и стекавший в выпученные глаза пот. Все внутренности были разворочены чьими-то когтями, пытавшимися вывернуть ее наизнанку, словно перчатку, и, обезумев от ужаса, Беатриче выгибалась, извивалась, выплевывала кляп, кусала до крови свои связанные руки, пока Джеронима не засунула ей в рот побольше тряпок. Беатриче заблудилась, вытолкнула себя из собственного тела, стала собственной болью и, пережив сотни смертей, канула в бездну мучений - в Эреб агонии. Она вышла за пределы этого мира.
Ребенок, который будет носить фамилию торговца шерстью, был пунцовым и большеголовым. Джеронима прятала мальчика шесть дней, пока Беатриче не смогла отправиться с ней в Борго-Сан-Пьетро. Две женщины выехали на рассвете, сказав, что хотят совершить паломничество к часовне Сан-Козимо. С превеликим трудом Беатриче удалось раздобыть двух мулов, и Джеронима вынесла корзину с ребенком, спрятав ее под широкой накидкой.
Небеса, озера и реки еще блистали неистовой летней лазурью, но леса уже порыжели, а на вершинах гор сверкал снег. Постоялый двор Борго-Сан-Пьетро - груда глины и сухих камней - притаился в пихтовом бору за деревней. Беатриче и старуха тотчас заметили карету под деревьями. В низком зале, за грубо обтесанным столом их ждала Коломба. Точно такая же, какой ее видела сквозь дурман антидота Беатриче: с агатовыми четками того же оливкового оттенка, что и шелковое платье, с каштановыми волосами, выбивавшимися из-под чепца в виде сердечка, в ниспадавшем фонтанной волной креповом покрывале. Не говоря ни слова, Джеронима поставила корзину на стол и ушла.
Они молча постояли друг против друга, затем взялись за руки и очень крепко их сжали. Беатриче высвободилась первой. Когда она развернулась и направилась к двери, уголки рта задрожали. В дверном проеме виднелись лишь пихты да куча щебня, будто ничего другого там никогда и не было.
Коломба склонилась над корзиной, и ребенок открыл глаза. Они были темно-винного цвета.
В день святой Луции, в час вечерни, послышался стук дерева, лязг железа и цепей, удары бича, крики и чертыханья: это вернулся дон Франческо. Ловко проникавший повсюду Доменико Стелла проявил все свои таланты для приумножения имущества Ченчи, и в начале года дон Франческо даже смог подарить своей дочери Лавинии роскошный экипаж. Тогда он задумался о приобретении замка в Монферрато, но, поразмыслив, решил все же вернуться в Петреллу, где чувствовал себя в большей безопасности.
Теперь у него из-за бледной спирохеты заплыл глаз, выпали ресницы, а на веках выступило розоватое сало. Дон Франческо не только не излечился от чесотки, но вдобавок подцепил анальный грибок и стал чесаться пуще прежнего.
Он припас для Беатриче сюрприз и ликовал при одной мысли о ее изумлении. Пару недель тому она написала Клименту VIII, умоляя позволить ей и донне Лукреции удалиться в монастырь. Прошение вручили кардиналу Сальвиати, а тот передал его своему секретарю Анджело Кальчина. Эта старая кляча из административной конюшни, отупевшая от ватиканской рутины и одуревшая от иерархических приличий, не придумала ничего лучше, как явиться к самому дону Франческо. Тот гнил заживо на своем убогом ложе, но сохранял жизнерадостность и, похоже, с радостью готов был выполнить желание дочери. Франческо попросил показать письмо и как бы ненароком оставил его у себя. Сейчас оно хранилось за поясом, по которому он стучал ладонью, ухмыляясь в бороду.
— Беатриче!
— Синьор падре?
— Зачем ты написала папе?
Она побледнела и в отчаянии солгала:
— Я никому не писала, синьор падре.