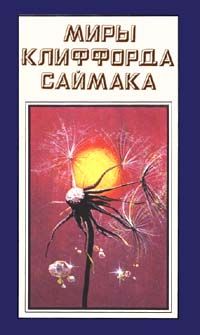Юрий Буйда - Вор, шпион и убийца
Наш сосед дядя Митя был командиром саперной роты, воевал в Маньчжурии, а уволили его из армии уже по приказу Хрущева, в 61-м. В потайном месте на чердаке, которое, разумеется, нам было хорошо известно, он хранил книги — наставления по саперному делу — и большой моток бикфордова шнура. Надев противогазы и вставив детонатор в деревянный чурбак, мы при помощи ручной дрели проделали в ударном детонаторе крошечную дырочку (один при этом рванул — выколупывали потом из голов щепки). Теперь можно было собирать взрывное устройство. Алюминиевые столбики оказались гораздо сильнее тротила. Отъехали от городка несколько километров, пристроили самодельную бомбу в заброшенном кирпичном строении у железнодорожной насыпи, подожгли шнур и бросились бежать. Но длину шнура не рассчитали — рвануло, когда мы еще были на рельсах. Над головами — шквал кирпичных и бетонных обломков, с воем жикнула над нами скрученная штопором железная ржавая двутавровая балка, упала, срезала ежевичник метров на пятьдесят, замерла. Только тогда мы и испугались. Эта балка могла запросто посносить наши дурные головы.
Но страсть к опасным приключениям мало-помалу прошла.
Мы взрослели, наш мир менялся, и в нем случались взрывы посильнее тротиловых.
В наш городок пришли мини-юбки, и взрослеющие мальчишки вдруг увидели, что у их одноклассниц — и не только у них — есть ноги. Ножки. У некоторых — просто замечательные. «Фигурка» умерла — родились «ножки». Занудная учительница физики превратилась в богиню, потому что у нее были умопомрачительные ножки. За красивые ножки Люсендре Филиной, которая и в старших классах читала по слогам, прощали и тупость, и прыщи, и гусиный смех. И вдобавок среди наших девочек изредка встречались не просто длинные, но — высокие, что было редкостью для поколения, родившегося в пятидесятых и выросшего на картошке с салом.
Королевы веселой фальши с их американскими фигурами и ногами — Любовь Орлова, Марина Ладынина, Мария Бабанова — в пятидесятых уступили актрисам народной правды — Нонне Мордюковой, Людмиле Хитяевой, Элине Быстрицкой с их мощной скульптурной красотой, пылавшей на всю страну, как храм божий на горе, и поражавшей с первого взгляда, но в середине шестидесятых изменился актерский тип, и героинями подростковых грез, студенческих общежитий и солдатских казарм стали изящные Наталья Варлей, Наталья Селезнева и Ирина Печерникова, скромные иконы в этом храме, иногда даже с печатью одухотворенности на лицах.
Дед Семенов посмеивался:
— Фигурка, ножки… похоже, до настоящей правды вы еще не доросли…
— Правды? — удивился я.
— До жопы, — снисходительно пояснил старый зэк. — Настоящая правда женщины — это ее жопа. Сердце и жопа — вот и вся баба. Иногда сердце, чаще — жопа.
Я сижу на вишенке,
Не могу накушаться.
Дядя Ленин говорит:
Тетю надо слушаться.
С этого начиналась инициация в детском саду, в котором, правда, я провел всего один день. И не потому, что тетя была такой уж плохой или мне не нравился дядя Ленин, щурившийся на портрете в игровой комнате, — вовсе нет. Дело было только в том, что я оставил недопитый в обед компот на столе, сказав, что допью после дневного сна, а когда пришел в столовую, увидел, что компота нет. Это меня возмутило. Я молча перелез через забор и пошагал домой — через два моста, железнодорожный переезд, мимо водокачки, километра полтора-два.
Родители вздохнули, но наказывать меня не стали: они тоже слышали выражение «несадешный ребенок».
В школе нас приняли в октябрята. Родители купили в книжном магазине звездочку с портретиком маленького Ленина, и на следующий день нас, одетых в белые рубашки и одуревших от волнения, приняли в ряды октябрят, «ленинских внучат».
Старшие ребята с пионерскими галстуками прикалывали звездочки к нашим рубашкам и салютовали. Рядом со мной стоял парнишка, который был на голову выше любого в нашем классе. Он носил расклешенные брюки и белый свитер. Нас уже научили: хочешь выйти в туалет — подними руку и попросись. А этот парень запросто выходил из класса, бросив учительнице небрежно: «Поссать». Или: «Посрать». На уроках он постоянно что-то жевал, вытирал руки о свитер, а если его спрашивали, густо краснел и начинал кричать что-то невразумительное. Когда ему прикололи к свитеру октябрятскую звездочку, он покраснел и громко пукнул. Потом еще раз. Потом сказал: «Посрать» — и выбежал из актового зала. Через неделю его отправили «за реку», в школу-интернат для олигофренов.
Учителя качали головами: «Это надо было сделать сразу, а не мучить ребенка. Если б не его родители…» Отцом его был командир ракетной бригады, который никак не мог смириться с тем, что его поздний ребенок умственно неполноценен.
Перед приемом в пионеры нас заставили выучить наизусть клятву юного ленинца, но поскольку произносили мы ее хором, всем классом, то мое невнятное блеяние осталось незамеченным. Я страдал, мне хотелось выучить ее наизусть, но так и не смог.
Пионерский галстук полагалось каждый день стирать и гладить.
Поначалу мы все носили галстуки с гордостью, но потом — потом, когда старшие ребята (да и разбитные ровесники) при встрече стали говорить: «А хули ты с селедкой?», мы — мальчишки прежде всего — сразу после уроков снимали галстук и прятали в карман. А уж в шестом-седьмом классах, незадолго до приема в комсомол, ходить с пионерским галстуком на шее стало просто западло. Впрочем, почти никаких неприятностей членство в пионерской организации не доставляло. Хорошо учиться, беречь природу, сдавать металлолом, любить родину — да нас и без «селедки» заставляли это делать.
Когда же речь зашла о приеме в комсомол, пришлось зубрить устав ВЛКСМ. Вот это была мука. В отличие от дружков, я не терялся перед трудными словами и их сочетаниями вроде «демократического централизма» или «первичной организации», но память моя, как я уже говорил, была чрезвычайно избирательной, поэтому заучивание устава стало для меня настоящим испытанием.
Я был влюблен в Анечку Татарскую, отличницу в отчаянной мини-юбке, с красивыми ножками, идеальной фигурой и маленькими припухшими губами, а она была секретарем нашей комсомольской организации и относилась к своим обязанностям серьезно. По вечерам мы с ней гуляли часами, в темных местах я обнимал ее за плечи — она не возражала, но дальше этого дело не шло: Анечка была умной и твердой девочкой. На груди она носила двадцатикопеечную монету, висевшую на серебряной цепочке: память об отце, который бросил семью, швырнув дочери на прощание двадцать копеек «на мороженое». Об этой монетке знали только она и я.
— Ну выучи, — умоляла она, — ну пожалуйста!
— Ладно, — сдался я. — Но при одном условии.
Она зажмурилась и кивнула.
Вечером я сосредоточился, разобрался в структуре устава, понял все, что следовало понять, и наутро готов был отвечать на любой вопрос. Но этого не потребовалось. Нас принимали в комсомол класс за классом — а это примерно сто пятьдесят — сто шестьдесят человек. Члены комитета и учителя вскоре устали. Наша классная руководительница смотрела в окно и вздыхала. Всем задавали одни и те же вопросы, и когда я начал рассказывать о демократическом централизме, меня остановили, похвалив за доскональное знание устава. У Анечки покраснела сначала шея, потом лицо, потом даже коленки, кажется, покраснели.
Была ветреная осень, вечер, мы забрались в домик на территории детского сада, Анечка подставила губы, потом я расстегнул на ней куртку и джемпер, потом она сама подняла юбку и легла на узкую скамейку. Ничего не было, я только оставил влажные следы на ее животе.
— Когда-нибудь, — сказала она, едва шевеля распухшими и кровоточащими губами, — я выйду за тебя замуж и рожу ребенка. — Голос ее дрогнул. — Двоих, троих, пятерых детей — сколько захочешь. С удовольствием. С наслаждением. Но ты и сам не представляешь, какой ты опасный человек. Ты слишком любишь себя, только себя. Живешь так, словно вокруг тебя — одни мертвецы.
Через неделю нас на автобусе отвезли в райком комсомола, где спрашивали об уставе, а потом поздравляли и вручали комсомольские значки.
На обратном пути, когда никто за нами не наблюдал, Анечка брала меня за руку.
Всю зиму по вечерам мы гуляли в обнимку. Или катались на коньках — сначала по ухабистой улице, а потом перебирались через дамбу и отправлялись в дальнее путешествие по реке, разлившейся до Детдомовских озер. Однажды мы провалились под лед, я помог Анечке выбраться, и мы, оба мокрые и продрогшие, полтора километра мчались на коньках против ветра, пока не добрались до дамбы, от которой до дома было рукой подать.
Разошлись мы лишь однажды, когда она и ее подружки стали восхищаться поэмой «Галина» Асадова. Я попытался возразить — ведь мы вместе читали Боратынского — Анечка с гневом закричала: «Но он же слепой!»