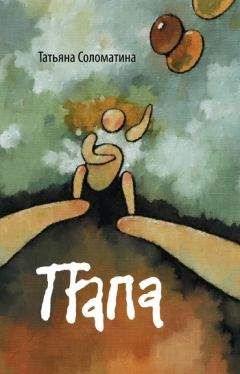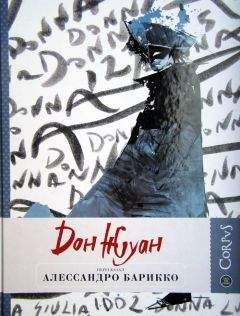Алессандро Барикко - CITY
«Итак, разглядывать „Нимфей“ — значит разглядывать взгляд, — продолжал он, — и сверх того, взгляд, несравнимый со всем нашим прежним опытом, но единственный в своем роде, невоспроизводимый, взгляд, который не может быть нашим». Скажем по-другому: разглядывать «Нимфей» — эксперимент на грани невозможного, почти невыполнимая задача. Это не могло ускользнуть от Моне, который долго, с маниакальным прилежанием, вновь и вновь изучал возможность повесить панно так, чтобы свести к минимуму их невидимость. Ему это удалось с помощью элементарного, простого по сути, но до сих пор достаточно действенного приема, из-за которого «Нимфеи» и попали в поле зрения профессора Мондриана Килроя. Согласно воле Моне, «Нимфеи» были вывешены — в строго определенном порядке — на восьми криволинейных стенах.
— Криволинейных, дамы и господа, — выговаривал профессор Мондриан Килрой с нескрываемым удовлетворением.
Для ученого, посвятившего немаловажные исследования радуге, крутым яйцам, постройкам Гауди, пушечным ядрам, петлям автодорог и речным меандрам — посвятившего криволинейным поверхностям годы размышлений и анализа, — в общем, для профессора Мондриана Килроя, — это был праздник Сошествия Святого Духа: видеть, как старик художник, зависший над бездной в состоянии равновесия и надеясь найти спасение, доверил свою судьбу милосердным криволинейным стенам, избежав террора углов. Поэтому профессор Мондриан Килрой, словно наэлектризованный от радости, считал возможным в этом месте лекции показать диапозитив номер 421, изображавший перспективу двух залов парижской Оранжереи, где были выставлены в январе 1927 года «Нимфеи» Моне и где еще сегодня публике было бы позволено видеть их, если бы «видеть» не было словом, полностью несоответствующим ситуации, а именно — невозможности разглядывать панно.
***
(Диапозитив номер 421)
Каждый сантиметр поверхности «Нимфей» — это криволинейная поверхность, господа. И здесь профессор Мондриан Килрой подходил к сути лекции номер 11, самой ясной и отчетливой из всех лекций. Он приближался к слушателям и отныне развертывал свои положения медленно и методично, как река, оставляющая наносы.
Я видел людей в этом помещении, видел, как они боролись с «Нимфеями». Войти в дверь и немедленно ощутить себя потерянными, словно ОТЛУЧЕННЫМИ от привычной задачи — видеть, ВЫКИНУТЫМИ из обжитого угла зрения и вбРООООшенными в пространство, начальную точку которого они безуспешно ищут. Начало. В каком-то смысле «Нимфеи» вращаются вокруг них, оставаясь неподвижными, поскольку приведены в движение кривой линией, понемногу обертывающей их вокруг двух пустых залов, как упаковку, неизбежно предполагая панорамное видение, к которому люди и приходят в детском изумлении, пытаясь вращаться вокруг собственной оси, с глазами, рыскающими по всем 360 градусам. И нередко — с робкой улыбкой. Может быть, на какое-то мгновение, близкие к кинематографическому восприятию, они воображают, что видели, — но разочарование не заставляет себя ждать и невольно толкает их к поиску нужного расстояния и порядка перехода от одного панно к другому, иначе говоря, как раз к тому, от чего их отучило кино, навязывая кадр за кадром и расстояние и порядок рассмотрения, лишая их возможности выбрать нужный взгляд, ведь кино — это взгляд по принуждению, данный извне, так сказать, деспотический, непреклонный; тогда как «Нимфеи», напротив, как бы вызывают головокружение из-за свободы восприятия — что, как известно, наказуемо. Люди словно потеряны. И вот они перестают торопиться. Они ходят туда-сюда, возвращаются, прогуливаются перед панно, приближаются к одному краю, к другому, отходят назад, иногда присаживаются на пол или на скамейку, на специальную банкетку, — убежденные в том, что они видят что-то и это им нравится, но не уверенные в том, что видят на самом деле. Тут многие интересуются тем, сколько. Сколько времени потребовалось, сколько метров в высоту, сколько килограммов краски потрачено, сколько метров в длину, сколько. Они бродят вдоль вещи, это очевидно, они думают, что если она перед ними, то она в конце концов действительно будет перед ними, а не над-ними-под-ними-рядом-с-ними, то есть там, где и вправду находятся «Нимфеи», равнодушные к количественным выражениям: везде. Рано или поздно люди осмеливаются подойти ближе. Они увидят их. Но не увидят по-настоящему вблизи. Если бы они смогли, то потрогали — они трогают глазами вместо пальцев. И совершенно перестают их видеть, не в состоянии больше ни к чему прийти, замечая лишь жирные и беспорядочные мазки, как дно грязных тарелок — горчица, повидло, майонез, — или как импрессионистически разрисованная стена в сортире. Они смеются. И тут же отодвигаются назад — отыскать точку, с которой ясно различимо то, чего они до сих пор не видели: лилии. Отступив на несколько шагов, они не преминут спросить, как этот человек мог видеть издалека и писать вблизи, хитроумный трюк, зачаровывающий их, но утомляющий в конце маленького путешествия к центру зала: такие же непонимающие, как раньше, но теперь еще и околдованные. Это тот момент, когда к сознанию собственного невидения прибавляется внутренняя боль, соединенная с подспудной уверенностью в том, что ускользающее от их взгляда способно доставить острое наслаждение, незабываемое ощущение прекрасного. И они складывают оружие. И цепляются за последний эрзац истинного восприятия — признак того, что взгляд не удался. Они достают из мягких серых футляров свидетельство поражения — фотоаппарат.
Они фотографируют «Нимфей».
Как это трогательно. Костыль, брошенный против неприятельских орудий. Пятидесятимиллиметровые объективы: сетчатка-камикадзе над группой убегающих лилий. Вспышки не разрешены неумолимыми правилами. Итак, они делают снимки, пытаясь — безнадежно — поймать «человеческий» кадр путем болезненного изгиба коленей, перемещения торса, наклонов во все стороны. Они вымаливают взгляд, неважно какой, полагаясь на волшебную химическую помощь фотопленки. Те, кто выглядит трогательнее всех — намного трогательнее, — громко кричат о поражении, помещая между объективом и лилиями убийственное тело родственника, обычная поза которого — символ поражения — спиной к лилиям. Годы и годы затем этот родственник будет приветствовать гостей с высоты комода, с погасшей улыбкой дяди, годы и годы назад утонувшего в пруду с лилиями: nympheas, helas, helas [Нимфеи, увы, увы — фр.]. Так что он унес их с собой, старый проныра-художник, и все запутались в безнадежной задаче: разглядеть несуществующий взгляд, все завоеваны и повержены, растоптаны его хитростью, просто люди, им, его лилиями, красками, его проклятой кистью, взглядом, который видел Моне и никто после него, водой, нимфеямиииииии и. И даже сегодня я возненавидел бы его за это. Нет прощения пророкам, чьи пророчества непонятны другим, и я долго думал, что он из этой породы, породы дурных учителей, ибо я был уверен, что придуманный им взгляд, в конце концов, не нужен, раз он недоступен другим и предназначен лишь для него самого, раз он не смог сделать этот взгляд разглядываемым. Есть от чего запрезирать его: отнимите акробатическую ловкость восприятия — безумную, ускользнувшую от всех точек зрения в поисках некоей бесконечности, — отнимите смелость первопроходца в области ощущений, и останется море неясных нимфей, грубый образчик импрессионизма, смертоносная и притягательная техника, в которой среднебуржуазное сознание обожааааает распознавать вторжение современности, возбужденное от мысли, что вот она — революция, и почти умиленное от мысли, что эта революция может понравиться, соглашаясь, что, в сущности, она не причинила никому зла — new for you, наконец, что вот она — революция специально для девушек из хороших семейств, и в каждой подарочной коробке — ощущение современности: тьфу. Его можно только ненавидеть за то, что он сделал, я ненавидел каждый раз, оказываясь в парижской Оранжерее, выходя оттуда поверженным, каждый раз, двадцать лет подряд. И сегодня я возненавидел бы за это его, извратившего идею криволинейного пространства, — если бы мне не было дано видеть человека — женщину — вошедшую 14 июня 1983 года в зал номер 2, самый большой, — видеть, как она у меня на глазах видит «Нимфей» — видит «Нимфей» — открывая мне, что это возможно, пожалуй, не для меня, но возможно вообще для кого-то в этом мире: там был взгляд, именно там, он был понемногу в начале, на всех участках и в конце параболы. Много лет я наблюдал за женщинами, невольно догадываясь, что если решение есть, то найдет его женщина, пусть даже в силу взаимности между двумя загадками. Конечно, я смотрел на красивых женщин, прежде всего на красивых женщин. Эта отошла от своей группы — женщина восточного типа, большая шляпа наполовину прячет лицо, какие-то странные туфли, — перед этим она была в середине группы восточных туристов, сплошь из женщин; она отошла, словно отпустили поводок, который не отпускал ее от группы, и сейчас была под воздействием особой силы тяжести, увлекавшей ее к нимфеям, тем, что на восточной стене, где изгиб поверхности наибольший, — она упала в сторону нимфей, внезапно став похожей на осенний листок, — упала, как маятник, качаясь в противоположные стороны по гармонически изогнутой траектории, — позвольте сказать: по кривой линии, — два деревянных костыля под мышками — ступни в туфлях, будто мягкие языки колокола, двигаются в ритме врожденного уродства, — на плечах шаль — шаль-недуг — руки безобразно вывернуты — блестящемящая пяденица — и я смотрел на нее — вернулась после невероятно долгого перелета — блестящая, щемящая, прямо здесь. Неимоверно усталая, она преодолевала сантиметр за сантиметром, но, похоже, и помыслить не могла об остановке. Вся она вращалась вокруг оси деформации собственного тела, однако двигалась вперед, рывками, напоминавшими шаги, и так перемещалась, терпеливая улитка, неотделимая от раковины своей болезни, — след от слюны позади обозначал причудливую траекторию — и смущение тех, кто следовал по этому пути, глотая стыд и досаду, ища, куда отвести глаза, но не так просто было перестать смотреть на нее — больше некуда — там было полно народу, там был я, в какой-то момент осталась только она. Она достигла нимфей, так близко, что едва их не касалась, затем пошла вдоль панно, воспроизводя изгиб стены, но оснащенная звукорядом движения, кривая линия, свернутая в загогулину, что ежесекундно распрямлялась, и ежесекундно меняющееся расстояние, такое же неопределенное, как нимфеи, поскольку раздробленное движением на тысячи направлений, распыленное в этом лишенном центра теле. Так она пересекла весь зал, то приближаясь, то удаляясь, раскачиваемая нетрезвым маятником, который отсчитывал внутри время ее болезни, а люди вокруг расступались, стараясь не препятствовать даже самым невообразимым ее уклонениям. Я, который годами прилежно разглядывал нимфей, не сумев увидеть в них ничего, кроме нимфей, к тому же китчевых и достойных сожаления, я пропустил ее совсем рядом с собой и внезапно понял, даже не проследив за ее глазами, я понял с предельной ясностью, что она видит — она была взглядом, о котором рассказывали нимфеи, — взглядом, видевшим их изначально, — она была именно тем углом, точкой созерцания, невозможными глазами — ее узкие черные туфли были этим, и этим были ее болезнь, ее терпение, ужас ее движений, деревянные костыли, шаль-недуг, хрип рук и ног, ее мука, ее сила, и эта неповторимая, обозначенная слюной в пространстве, траектория, навсегда утраченная, когда она добралась, остановилась и покинула зал.