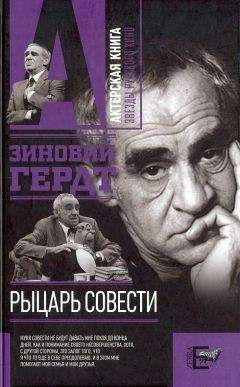Андрей Рубанов - Психодел
В этот раз Борис спрятал деньги не в холодильнике, а где спрятал – она не стала интересоваться. В первые же секунды, когда переступила порог и наскоро прошлась по комнатам, оглушенная, задохнувшаяся – обернулась к Борису и наткнулась на растерянный взгляд; гонщик, атлет и прекрасный принц был бледен и молчал. Хотя она предпочла бы увидеть ярость, сжатые кулаки, гнев, услышать матерные выкрики, экстатические или даже истеричные клятвы. Я, бля, крут, я найду и порву гадов. Она бы стала тогда успокаивать его, а не себя, это легче. Но он молчал, сутулился. Шарил курево по карманам.
Пока они отдыхали как все нормальные бодрые люди – человек пришел в их дом и хорошо поработал.
Одно время девочка Лю всерьез увлекалась стилем ар-деко, двадцатыми годами, когда брюнеты были жгучими, а блондинки – томными. Даже отыскала диск с немым фильмом Рудольфа Валентино. Мода двадцатых берегла женщину, оставляла за ней право быть драматичной, загадочной и умной. Личностью, а не сексуальным объектом. Фарфоровые лица, огромные тени под глазами, голые плечи, жемчуга, локоны на висках, кокаиновая бледность, шарф Айседоры, страусовые перья, никаких тебе голых пупков, никакого силикона, никаких шпилек и платформ, певицы не показывали публике нижнего белья, а их женихи не выходили за порог без котелка и галстука – вот когда надо было мне жить, мечтала девочка Лю. Я бы нашла себя раньше и проще. Та мода была великодушна, а нынешняя – бесцеремонна и жестока. Сейчас в моде ноги, буфера и три извилины, мода сделалась индустрией, а любая индустрия работает на благо массового покупателя, и нынешняя мода есть мода для дур. А я не дура, я умная и красивая, я тоже хочу одеваться в жемчуга, и чтоб меня, как Айседору, трагически красиво задушил шелковый шарф, намотавшийся на колесо «бугатти», – или, в крайнем случае, ревнивый любовник... Так она думала и однажды подарила себе платье ар-деко, струящееся, усыпанное блестками, прямое, до колена, с бахромой по подолу, хоть сейчас выходи танцевать чарльстон или слоу-фокс; не очень дорогое, но невероятно стильное. Правда, ни разу никуда в нем так и не вышла.
Сейчас это платье валялось в коридоре и выглядело так, словно об него специально вытерли ноги.
Пропажа норковой шубы, и совсем новой дубленки с бобровым воротником, и нескольких золотых колец и браслетиков, и конверта с деньгами, отложенными на подарок к юбилею отца, не так ужаснули Милу, как вид этого драгоценного платьица, много лет олицетворявшего ее тоску по настоящему изяществу – а теперь обращенного в тряпку. И если исчезновение золотых украшений было поводом разрыдаться, то созерцание девической мечты, растоптанной воровскими башмаками, осушило слезы и вызвало гнев, столь звенящий и холодный, что Миле даже захотелось есть.
Она посмотрела на бледного, внешне спокойного Бориса, курившего третью за пять минут сигарету, и улыбнулась.
– Да, – тихо произнес он. – Весело.
Если у тебя отбирают что-то дорогое – можно поплакать, да. Но если отбирают самое дорогое – тут плакать бессмысленно, тут надо улыбаться.
– Ничего, – бодро сказала Мила. – Ничего. Зато есть повод обновить гардероб.
Глава 14
История его еды
В тот год, 1987-й, многое изменилось. А в следующий – еще больше. Целая страна сползала в хаос. Подыхала в муках. Страна была великая, муки – тоже. Уходить на дембель в парадной форме, с грудью в значках, с погонами, обшитыми кантом, в начесанной и наглаженной шинели, в белом ремне – уже было не круто. При полном параде уезжали по домам только деревенские парни. Те, для кого срочная служба на долгие годы потом оставалась самым ярким воспоминанием.
Как в поговорке «Гражданку вспоминаешь два года, а армию – всю жизнь».
В роте были латыши, эстонцы, армяне, азербайджанцы, много белорусов и украинцев. Осенью 1988-го маршал Язов издал очередной приказ об увольнении в запас. Кирилл понемногу стал собираться домой, искал, чего бы прихватить полезного, – и вдруг заметил, что его приятели из братских республик не горят желанием возвращаться в свои братские республики облаченными в кителя воинов Советской армии. Армяне, грузины, эстонцы и латыши не бегали с утюгами. Шептались, посмеивались и готовили гражданскую одежду.
Эстонцы и литовцы уезжали в кожаных куртках, армяне – в кожаных плащах и пальто. Грузины – в кожаных жилетах. На рынках в Караганде можно было купить вполне приличную монгольскую кожу.
Непосредственный командир Кирилла, старший сержант Жукаускас, приобрел даже кожаные штаны.
– У нас в Клайпеде, – сказал он Кириллу, – в советской форме уже ходить нельзя. Тут Караганда, тут я советский воин. А в Клайпеде, – сержант стучал себе пальцем по красному погону, – это форма оккупантов.
Армия Кириллу надоела, хотелось домой, хотелось чем-то заняться. Поговаривали, что на гражданке происходит черт знает что. Именно это выражение мать Кирилла употребила в последнем письме. «Твой друг Афиногенов теперь занимается черт знает чем, ходит с золотой цепью и денег не считает». Кирилл неоднократно перечитывал письмецо, и всякий раз эта фраза его сильно возбуждала. Ходить с золотой цепью, не считать денег и делать черт знает что – это ему нравилось. Следовало придумать, как попасть в число тех, кто делает «черт знает что». А наглаживать утюжком шинельку, мечтая о дембельской гастроли, о пиве и бабах – бессмысленно и нерационально.
От Кустаная до Москвы поезд шел двое суток. Вагон был набит казахами и чеченцами. Казахстанские чеченцы всегда нравились Кириллу, они были злые и сосредоточенные. Как настоящий деловой человек, Кирилл ехал на дембель не пустой, в его чемодане лежало четыре гранаты, завернутые в газету «Красная Звезда», а также штык-нож. На вторые сутки он продал чеченцам три гранаты из четырех. А штык-нож не продал, но продемонстрировал. Чтобы покупатели знали – человек вооружен, к нему лучше не соваться.
Потом выяснилось, что с гранатами он сильно продешевил.
На радостях мать расплакалась, а вечером собрала стол и позвала соседей: незнакомую Кириллу стройную женщину с печальным нежным лицом и ее сына, ушастого мальчишку восьми лет. Третья комната коммунальной квартиры была замкнута на ключ, там никто не жил. Комнату «откупил» какой-то кооператор, туманно объяснила мать; «откупил», а сам не живет; непонятно, зачем «откупил»; видать, деньги девать некуда. Черт знает что творится.
Печальная дама посидела из вежливости полчаса, выпила глоток «Кюрасао» и ушла, и пацанчика увела, но позже он вернулся. С Кириллом ему было явно интереснее. Суровый жилистый Кирилл тыкал мальчишку меж ребер твердым указательным пальцем и вставлял в речь поговорки, позаимствованные у подконвойных зеков.
«Если хочешь быть амбалом – ешь один под одеялом».
«Супчик жиденький, но питательный; будешь худенький, но внимательный».
Малец осторожно смеялся.
В тот вечер доблестному воину Советской армии Кириллу Кораблику идти было некуда. Лучший друг Афиногенов шатался неизвестно где (точнее, черт знает где). Трубку в его квартире брал пьяный отец. И Кирилл, полусонный, расслабленный, объевшийся домашней еды, вдруг понял, что бледный мальчик с настороженными смышлеными глазами приятен ему. Даже полезен. Мальчик смотрел на кожано-джинсового Кирилла, как на полубога.
– Бориска, – спросил Кирилл, – а папка твой где?
– Дома, – тихо ответил пацанчик. – Они с мамой поругались, и мы сюда переехали. Мама сказала, что мы теперь будем жить тут, и пусть папе будет стыдно.
– Не понял. За что стыдно?
Мальчишка замялся.
– Ну... У папы дома – пять комнат, и он живет один. Еще есть тетя Клава, но она домработница, она не считается. А тут у нас – одна комната, на двоих с мамой...
– Ясно, – сказал Кирилл. – А если твоему папке не будет стыдно?
Пацанчик не понял вопроса, пожал острыми плечами. Кирилл достал из чемодана штык-нож, вручил.
– Держи. Побалуйся.
И пошел отлить.
Когда вернулся, ушастый Бориска осторожно водил пальцем по лезвию.
– Не бойся, – сказал Кирилл. – Не обрежешься.
– А почему он такой тупой?
– Потому что для колющих ударов. Примыкаешь к автомату – и бьешь, вот так.
Мальчишка кивнул и с надеждой спросил:
– А автомат у вас есть?
– Извини, братишка, – сказал Кирилл. – Нет у меня автомата. Хотел привезти, но не получилось. Да и зачем он? Если есть нож, зачем автомат? Автомат большой, грязный, тяжелый, от него шум и вообще, хлопот много. А ножичек – маленький, удобный, в карман положил – и кайфуй себе. Тихо подошел, тихо подрезал, тихо отвалил. Понял, нет?
Мальчик опять не понял, но демобилизованный солдат Кирилл Кораблик только улыбнулся.
Тот же самый табурет, те же обои, тот же вид за окном, и вареная колбаса на той же тарелке с бледно-голубыми цветами по краю; когда-то на месте доблестного воина сидел отец. Кузьма Гаврилович. А на табурете вместо Бориски сидел шкет Кирюшка и заворожено наблюдал, как в коричневых пальцах отца мелькает узкое лезвие.