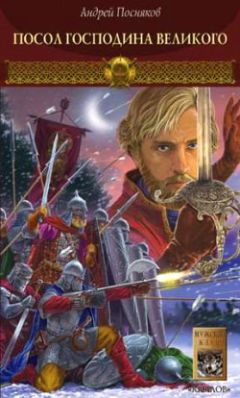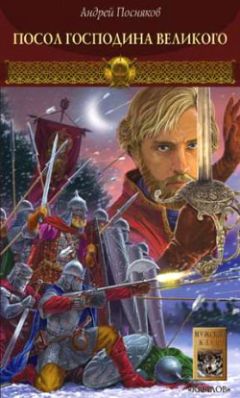Фредерик Бегбедер - Идеаль
(Выдержки из письма, направленного бывшей супругой подозреваемого следователям Управления по борьбе с организованной преступностью. Подшито к делу о храме Христа Спасителя.)
Часть третья
LETO
…только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки… Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.
1
Весна продлилась всего неделю, снег растаял, и внезапно грянула жара — лето повсюду наступает одинаково. На влажных улицах мерцали огни казино, гигантские рекламные мониторы лучились между старинными церквями, чудом пережившими XX век. Солнце заявилось раньше срока. А осень уйдет почти вся на ожидание белизны. Вокзал, откуда московские поезда отправляются в Санкт-Петербург, по-прежнему называется Ленинградским (оно и понятно — не могут же русские менять вывески всякий раз, когда один тоталитаризм сменяется другим). Кто знает, может, в скором времени Санкт-Петербург, бывший Петроград, переименуют в Путинград — заодно можно будет сэкономить на замене букв в названии вокзала на Комсомольской площади. Ночью поезд часто останавливался — под колеса то и дело попадались медведи, волки и крестьяне в каракулевых шапках. Когда мы прибыли, я увидел в самом конце перрона старушек, продававших варежки, носки, огурцы, варенье и котят. Девушки, решил я, находятся, наверно, еще дальше, и был прав — девушки всегда оказываются вдалеке.
Zdrastvuite, святой отец. Я привез вам баночку фуа-гра. Попробуйте, это чудо что такое, мне присылают лучшие сорта «Федексом» прямо из Беарна. Не то чтобы я ностальгировал по родным Пиренеям, но меня начинает мутить от красной икры. Ваша пересоленная жрачка у меня уже из ушей лезет. В России все время хочется пить, потому что за каждой трапезой гостя пичкают икрой, селедкой, угрем и копченым палтусом. Неминуемые zakuski превращают вас всех в законченных алкоголиков! Вот у нас в По все по-другому: мы умащаем себе раны вином и откармливаем уток, пока их печенка не лопнет у нас в глотке. Потом заливаем вышеозначенные органы арманьяком и отрубаемся прямо за столом, уткнувшись носом в остатки утиного жира или в декольте какой-нибудь дамы, приятной во всех отношениях, что, в сущности, одно и то же.
Рад видеть вас в отличной форме. В прошлый раз у вас был измученный вид — вы словно сошли с последних фотографий Льва Толстого, когда в 1910 году он бросил жену и отправился умирать на станцию Астапово. Сегодня, batiushka, ваша белоснежная борода служит мне маяком в ночи, ярко сверкая на фоне черной рясы, — вы похожи на шоколадное мороженое со взбитыми сливками. Вечная слава бороде! Я дико извиняюсь, но вам не вредно было бы ее мыть время от времени, а то от нее идет душок, как от моей души. Я так вам ничего и не сказал о Лене Дойчевой. Я вот уже два месяца ни с кем не говорю о Лене Дойчевой. И впредь не хотел бы упоминать Лену Дойчеву… Не знаю, должен ли я вас благодарить, монсеньер, за то, что вы познакомили меня с невыносимо сияющей Леной Дойчевой. Чтобы все-таки рассказать вам о ней, мне придется начать с начала: как я приехал в подозрительно бледную петербургскую весну, как мы встретились с ней в «Caviar Ваг» гостиницы «Европейская», когда-то наводненной шпионами КГБ, а сегодня — легавыми в штатском (вам удается почувствовать разницу?), потом вспомнить о божественных днях, проведенных вместе, и, наконец, о вечеринке на даче моего олигарха. Там-то я и пал жертвой инфанты Лены Дойчевой, ее неверной венерности, алебастровой груди и бесконечной самонадеянности ее четырнадцати лет. А все из-за вас, батюшка.
Съешьте еще ломтик фуа-гра, пока я повествую вам о своем падении. Конечно, теплый сдобный хлеб с изюмом нам бы не повредил, но печенка несчастной утки из далекого По и без того — большая роскошь. Она полусырая, как и все обитатели города моего детства. Нам бы не грех вкусить от благодеяний, которыми одаряет нас Всевышний. Я с удовольствием слушаю, как вы жуете, равномерный звук работающих челюстей помогает мне сосредоточиться. Смотрю на вас и вижу свою техасскую бабушку, без бороды само собой, в саду виллы «Наварра» на проспекте Треспоэ, незадолго до того, как у нее обнаружили рак. Она чавкала точно как вы, убаюканная журчанием воды в бассейне, доносившимся сквозь розовые кусты, и треньканьем ледышек в хрустальном бокале. Может, она размышляла о несчастном детстве своего сына (моего отца), которого сослала в пансион святых отцов Сореза? Может, она все-таки скучала по своему младшему мальчику? Может, ей не чуждо было ничто человеческое, как знать? Мой отец отсидел в интернате с 1948 по 1955 год, потом, в начале шестидесятых, женился и сразу родил двоих детей — можно ли требовать от мужчины вечного отказа от свободы? Его детству не хватало приволья, в моем же оно присутствовало с избытком. И тем не менее с возрастом я все более становлюсь похож на него, к тому же теперь мы почти коллеги (он был хедхантером, я — модельхантер). Сорез — это древнее аббатство бенедиктинцев у подножия Черной горы, в болотистой местности неподалеку от реки Сор (поскольку ваша нога не ступала в эту забытую богом дыру, могу вас сориентировать — это где-то между Тулузой и Каркассоном). В пятидесятые годы дисциплина у доминиканцев была суровая. Десятилетних мальчиков запирали на ночь в одиночных кельях два метра на полтора, задвигая снаружи металлическую щеколду. (В двенадцать лет улучшений не наблюдалось — они спали в общем дортуаре, мучаясь от удушающей вони немытых ног и шумной дрочки, не говоря уже об измазанном пастой члене — с дедовщиной там было все в порядке). Каждое утро в пять тридцать их будил колокол. Потом поднимали флаг, и, дрожа от холода, дети в накрахмаленных мундирчиках строились на перекличку. В семь часов они гуськом отправлялись на службу. Потом до восьми вечера шли занятия. В полдесятого в спальнях гасили свет. Часто они просыпались среди ночи от холода и голода. Зимой разогревали кирпичи в жаровне на углях, чтобы использовать их как грелку для постели. Для непослушных учеников существовало особое наказание, так называемое «заточение»: ребенка запирали в ледяном карцере, распахнув настежь окно, до которого нельзя было добраться — стол был намертво привинчен к стене. Узник сидел целый день на сухарях и воде, переписывая в тетрадь разнообразные тексты. Иногда старшие ученики бунтовали: как-то раз они привели корову и свиней, затолкав их по лестнице на второй этаж, в дортуар воспитателей. Легенда также гласит, что они стащили мумию из часовни Сореза (трофей, привезенный Наполеоном из египетской кампании) и засунули ее в кровать самого свирепого кюре. Бывало, директор школы обнаруживал, что его кабинет вымазан экскрементами. В этом случае наказания были коллективными: ученики, отказывавшиеся признаться в содеянном, становились врагами всей палаты. Месть сотоварищей доходила до изощренного насилия, когда в анус вводили все, что попадется, — ручки, линейки, мелки. Пансион Сореза закрыли только в 1991-м — одновременно с последними лагерями ГУЛАГа! Я вам все это рассказываю, потому что не может не существовать прямой связи между воспитанием родителей и нашим личным безумием — мы нагоняем упущенное ими и наследуем не только фамилию и немного денег, но также их неврозы, лишения, недолеченные депрессии и неотомщенную фрустрацию. То же самое произошло и с русскими после Горбачева, пятнадцать лет назад, когда им пришлось разбираться с миллионами покойников. У нас у всех есть свой ГУЛАГ в шкафу, засевшая внутри несправедливость, которую никак не удается переварить. Мы все — потерявшие память россияне. Что же касается моего родового гнезда, то Поль-Жан Туле[54] написал на вилле «Наварра» 27 октября 1901 года: «Не кажется ли вам, что больше всего в жизни я любил женщин, спиртное и пейзажи?» Мне очень нравится эта призовая тройка. Лучшее средство, чтобы убежать от себя.
Очень мне желанна
Троица Поль-Жана —
Отцовские несчастья
Мои питают страсти.
2
Еще я помню, как Габриэль Марсель[55] пил чай в библиотеке моего деда под звуки «Бранденбургского концерта». Это тоже было в По. Отец шептал мне, глядя на мудрого старика с белоснежной шевелюрой: «Октав! Не мешай господину Марселю, это великий философ, он был близко знаком с Анри Бергсоном, а сейчас он размышляет o Dasein[56]…» В семь лет я жадно ловил каждое его слово и движение, пытаясь уяснить, что могло бы означать это Dasein (долгое время я считал, что это русская песня, типа «kalin-kakalin-kamaia»). Габриэль Марсель с пышными седыми усами был очень похож на маршала Петена, только в более угрюмом варианте, хотя глаза его сверкали весьма благожелательно. Я бегал по саду в австрийских штанишках вместе с моими кузенами Эдуаром и Жеральдиной, а он смотрел на нас с удивленной улыбкой, словно разглядывал пожелтевшие от времени фотографии. Теперь я его лучше понимаю: в беззаботном детстве ему виделась смерть, он был нашим Ашенбахом, а мы играли в маленьких Тадзио[57] беарнского разлива. Вспоминая об этих минутах, я испытываю ту же ностальгию, что и он тогда. Позже я узнал, что в сорок лет он крестился. Дед любил принимать писателей в своем прекрасном доме: Жана Кокто, Рене Бенжамена… Об их визите объявляли заранее, это становилось событием недели. Дед показывал им письма Поль-Жана Туле. Думаю, он предпочитал их компанию обществу своих сыновей. Наверняка у меня возникло желание писать именно благодаря его библиотеке. Сегодня вилла «Наварра» стала гостиницей, вы можете провести ночь в комнате Габриэля Марселя с видом на темно-синюю гору в обрамлении кипарисов, грабов, тюльпанных деревьев и гигантских секвой.