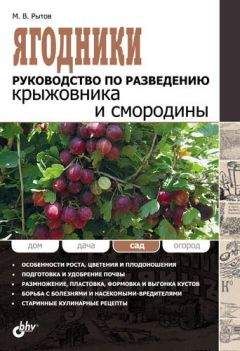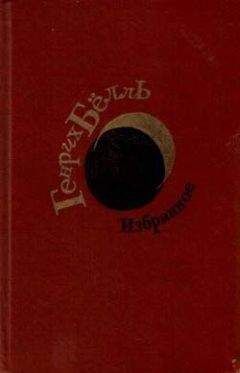Генрих Бёлль - И не сказал ни единого слова...
Подняв глаза, я увидела, что девушка уже отодвинула котел; как раз в тот момент она развязала и сняла платок, и на ее волосы упало солнце. И снова, глядя на нее в упор, я видела не только ее, но и себя самое, видела, как я спускаюсь с какой-то вершины и иду по грязной улице, окаймленной развалинами, видела вход в церковь, транспарант и себя перед этой лавчонкой, худую и грустную, но с улыбкой на лице.
Осторожно пробравшись мимо слабоумного, я вошла в закусочную. В углу за столиком сидело двое детей, а у очага — старый небритый мужчина, читавший газету; он опустил ее и посмотрел на меня.
Девушка стояла около большого кофейника и, поправляя волосы, смотрелась в зеркало. Я оглядела ее белые, очень маленькие детские ручки и заметила в зеркале рядом с ее свежим, улыбающимся лицом свое собственное — худое, чуть желтоватое, со вспыхивающими, словно язычки пламени, темно-красными накрашенными губами, и, несмотря на то, что улыбка появилась у меня на лице сама собой, почти против моей воли, она казалась мне фальшивой; но тут наши головы словно вдруг поменялись местами: моя голова стала ее головой, а ее — моей, и я почувствовала себя молоденькой девушкой, стоящей перед зеркалом и поправляющей себе волосы, увидела, как эта девчурка отдается ночью любимому человеку, который принесет ей и жизнь и смерть, оставив на ее лице следы того, что он называет любовью, это лицо станет наконец похожим на мое — худым, покрытым легкой желтизной от горечи этой жизни.
Но теперь она повернулась, заслонив в зеркале мое изображение, и я отступила вправо, покорившись ее очарованию.
— Добрый день, — сказала я.
— Добрый день, — ответила она. — Не хотите ли съесть пончик?
— Нет, спасибо, — сказала я.
— Почему? Разве вам не нравится, как они пахнут?
— Нет, мне нравится, как они пахнут, — сказала я, с дрожью думая о том неизвестном, которому она будет принадлежать, — они действительно хороши, но у меня нет при себе денег.
При слове «деньги», старик у печки встал, зашел за стойку, остановился рядом с девушкой и сказал:
— Деньги… но вы можете заплатить и позже. Вам же хочется попробовать. Правда?
— Да, — ответила я.
— Садитесь, пожалуйста, — пригласила девушка.
Я отошла немного назад и села к столику рядом с детьми.
— Кофе тоже подать? — крикнула девушка.
— Да, пожалуйста, — сказала я.
Старик положил на тарелку три пончика и подал мне. Он остановился рядом со мной.
— Большое спасибо, — сказала я. — Но вы ведь не знаете меня.
Он улыбнулся, вынул руки из-за спины и, неловко держа их на животе, пробормотал:
— Не беспокойтесь.
Я кивнула в сторону слабоумного, который все еще сидел на пороге.
— Это ваш сын?
— Сын, — сказал он тихо, — а она — моя дочь.
Он бросил взгляд на девушку за стойкой — та взялась за ручку кофейника.
— Он не может говорить, как люди, мой сын, — сказал старик, — и как звери тоже, он не произносит ни единого слова, только «дси-дса-дсе», а мы, — старик приподнял к нёбу язык, чтобы произнести эти звуки, и снова опустил его, — а мы, неумело подражая ему, выговариваем эти звуки слишком твердо: «зу-за-зе». Мы не способны к этому, — сказал он тихо; и внезапно, чуть повысив голос, крикнул: — Бернгард! — Слабоумный неуклюже повернул голову и тут же снова опустил ее. Старик еще раз крикнул: «Бернгард!» — Мальчик снова обернулся, и его голова плюхнулась вниз, как гиря от часов; старик встал, осторожно взял ребенка за руку и подвел его к столику. Он сел на стул рядом со мной, посадил мальчика на колени и тихо спросил меня:
— Может, вам противно? Вы скажите.
— Нет, — сказала я, — мне не противно.
Его дочь принесла мне кофе, поставила передо мной чашку, а сама встала рядом с отцом.
— Скажите, если вам противно. Мы не обидимся. Большинству людей это противно.
Ребенок был жирный и измазанный, он тупо глядел прямо перед собой и все лепетал: «дсу-дса-дсе»; внимательно посмотрев на него, я подняла голову и сказала:
— Нет, мне не противно, он как младенец.
Я поднесла чашку ко рту, отпила глоток, откусила кусочек пончика и сказала:
— Какой у вас вкусный кофе!
— Правда? — воскликнула девушка. — Правда? Сегодня утром мне сказал это один посетитель, а до этого никто не говорил.
— Он действительно вкусный, — сказала я, отпила еще глоток и откусила еще кусочек пончика. Девушка оперлась на спинку стула, на котором сидел ее отец, посмотрела сперва на меня, а потом куда-то вдаль.
— Иногда, — сказала она, — я пытаюсь представить себе, что он чувствует, чем живет; большей частью он выглядит таким спокойным, таким счастливым… Может быть, он различает только два цвета — зеленый и коричневый; возможно, воздух кажется ему таким, как нам вода, — зеленая вода, ведь он с трудом пробирается сквозь нее, зеленая вода, которая иногда отсвечивает коричневым, а по ней проходят темные полосы, словно на старой кинопленке. Иногда он плачет, и это ужасно; он плачет, когда слышит некоторые звуки — скрежет трамвая, резкий свист из репродуктора. Когда он их слышит, он плачет.
— Да? — спросила я. — Он плачет?
— О да, — сказала она и, словно возвращаясь откуда-то издалека, посмотрела на меня, так и не улыбнувшись. — Он часто плачет и обязательно, когда раздаются эти резкие звуки. Он тогда ужасно плачет, и слезы катятся по размазанному сахару вокруг его рта. Он ест только сладкое и еще молоко и хлеб, а от всего остального, если это не сладкое, не молоко и не хлеб, — от всего остального его тошнит. О, простите, — сказала она, — теперь вам стало противно?
— Нет, — сказала я, — расскажите еще о нем.
Она снова посмотрела куда-то мимо меня и положила руку на голову слабоумного.
— Ему трудно двигать головой и вообще передвигаться наперерез потоку воздуха; и также страшно ему, наверное, когда он слышит эти звуки. Может быть, в ушах у него всегда раздается мягкий гул органа — коричневая мелодия, доступная только его слуху; может быть, он слышит рев бури, от которой шелестит листва невидимых деревьев. Звон струн, толстых, словно руки, зовет его куда-то — и вдруг их гудение прерывается…
Старик слушал ее, как зачарованный, обнимая слабоумного и не обращая внимания на то, что повидло и растаявший сахар сползали на рукава его пиджака. Я выпила еще глоток кофе, откусила кусочек от второго пончика и тихо спросила девушку:
— Откуда вы все это знаете?
Она посмотрела на меня, улыбнулась и сказала:
— Ах, я ничего не знаю, но ведь что-то он должен чувствовать, чего мы не ведаем; я только пытаюсь представить это. Иногда он неожиданно вскрикивает, совсем неожиданно, прибегает ко мне и обливает слезами мой фартук — это бывает совершенно неожиданно, когда он сидит у двери; и мне кажется, что он вдруг увидел людей такими, какими мы их видим, и автомобили, и трамваи тоже, и оттого, что он услышал весь этот шум вокруг. Тогда он долго плачет.
Дети, сидевшие в углу, встали, отодвинули тарелки, и когда они проходили мимо нас, бойкая маленькая девочка в зеленой шапочке крикнула:
— Запишите, пожалуйста, мама велела!
— Хорошо, — сказал старик, улыбаясь им вслед.
— Ваша жена, — тихо спросила я, — его мать умерла?
— Да, — сказал инвалид, — она умерла. Ее разорвала бомба прямо на улице и отбросила малыша, которого она держала на руках. Он упал, и его нашли на куче соломы… Он кричал.
— У него это с рождения? — спросила я, запинаясь.
— Да, с рождения, — сказала девушка. — Он всегда был такой; все проходит, проходит мимо него, только наши голоса и орган в церкви достигают его слуха, и резкий скрежет трамвая, и пение монахов, когда они хором молятся. Но вы кушайте. Ах, вам все-таки противно.
Я взяла последний пончик, покачала головой и спросила:
— Вы сказали, он слышит пение монахов?
— Да, — сказала она, кротко глядя мне прямо в лицо, — их он слышит. Когда я хожу к монахам на Бильдонерплатц — знаете? — и когда они поют хором, его лицо меняется, становится худым и почти строгим; и каждый раз я пугаюсь, а он прислушивается. Я знаю, что он их слышит; он прислушивается и становится совсем другим, он улавливает мелодию молитв и плачет, когда монахи перестают петь. Вы удивлены? — сказала она, улыбаясь. — Кушайте.
Я опять взяла в руку пончик, откусила кусочек и почувствовала, что теплое повидло тает у меня во рту.
— Вы должны часто ходить с ним на Бильдонерплатц, — сказала я.
— О да, — сказала она, — я часто хожу туда, несмотря на то, что это меня пугает. Хотите еще кофе?
— Нет, спасибо, — сказала я. — Мне надо идти. — Я нерешительно посмотрела на девушку и на слабоумного и тихо сказала: — Мне бы хотелось когда-нибудь увидеть его там.
— В церкви? — спросила она. — У монахов?
— Да, — сказала я.
— Тогда пойдемте… жаль, что вы уходите. Но вы еще придете? Правда?