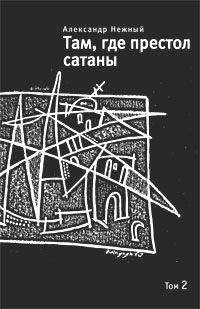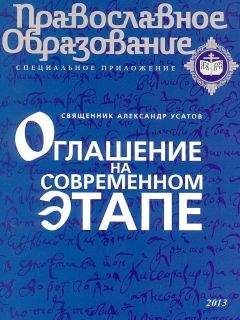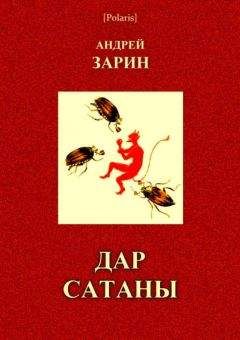Александр Нежный - Там, где престол сатаны. Том 1
– Я уже покаялся, – кратко ответил Исай Борухович и указал в бездонную синюю высь. – Перед Ним.
– Сам гляди, милый. У нас времени осталось – вздохнуть и выдохнуть. – И о. Иоанн прикоснулся к плечу игуменьи. – Благословляю тебя.
Мать Лидия, по-прежнему перебирая четки, заговорила:
– Ты, батюшка, сам знаешь, я в монастырь девчонкой пришла… Что мне было – семнадцать? А как бы и не шестнадцать. И такое горение во мне было, так сердце к Спасителю рвалось, так я Матерь Божью любила… И мама рыдала, и папа грозил, и запирал меня – хорошие они, добрые, верующие, особенно мама, Царство им Небесное, но они мирского счастья мне желали, для единственной-то своей умницы-красавицы, – а меня хоть режь, хоть жги. Никого не надо, ничего не хочу, только Христу по гроб жизни в невесты. И отпустили. Мама меня сюда привезла и с рук на руки игуменье Варваре передала, ты, батюшка, может, ее помнишь…
Отец Иоанн кивнул.
– Как не помнить! Великого духовного зрения была матушка. В чужой душе потемок не знала.
– Не знала, – откликнулась м. Лидия и вытерла глаза углом черного платка. – Я смерти боюсь, – вдруг сказала она и в упор взглянула на о. Иоанна черными, влажными глазами. – Не смерти, нет, я, батюшка, знаешь, чего боюсь? Вот они, – кивком головы она указала на ехавшую следом телегу, где покуривала и подремывала расстрельная команда – пять человек с винтовками, – выстрелят, и пуля в меня войдет… – Игуменья сжалась, как от удара, и вздрогнул, услышав ее слова, Исай Борухович и с невольными слезами прошептал: «Шма Йисро-эйл…» – А я еще живая, я все чувствую, а пуля эта, может, до смерти сразу не убьет, только мучить будет… Мучений боюсь.
– Радуйся, страстям Христовым сомученица, – ободрил ее о. Иоанн.
– Да, батюшка, да, – низким голосом, с силой промолвила она и быстро-быстро, круг за кругом перебирала четки, словно торопясь отмерить на них всю свою жизнь: от юности далекой до нынешнего дня с ласковыми лучами взошедшего над миром, но для нее навсегда уходящего во мрак солнца. – Я сначала в связочке ходила, а через год матушка меня в рясофор благословила… Вот счастье-то было! Я рясочку мою, камилавку и плат со слезами целовала – такое мне было счастье, что я ко Христу чуть ближе стала. И все мне легко было, все в радость, все в подъем: и тесто месить, и дрова колоть, и посуду мыть, и ночью вкруг келий с колотушкой ходить… За святое послушание не жила – летала. И Богородицу спрашивала: скажи, Матерь Божия, ладная ли у Твоего Сына невеста? А потом… мне уж лет, наверное, двадцать было… потом… – она помолчала, невидящим взглядом упершись в сидящего напротив Исая Боруховича, вздохнула и сказала: – один огонь во мне ослаб, а другой разгорелся. Стала я думать, что напрасно в монастырь себя заточила, рясу на себя напрасно надела и голову под ножницы напрасно подставила… Меня отец Герасим стриг, духовник наш, ты, батюшка, его тоже знал… Он из Сотникова в Кинешму уехал и в позапрошлом году его, старика, вот эти, – она снова указала на телегу позади, – прямо в алтаре штыками закололи… Агнец жертвенный.
Отец Иоанн перекрестился.
– Покой, Господи, душу убиенного раба Твоего, иерея Герасима…
– И сотвори ему вечную память, – вслед за старцем Боголюбовым осенила себя крестным знамением мать Лидия. – И так меня в мир потянуло – я тебе передать не могу. Молилась, постилась – всегда была тощая, а тут щепка щепкой, хожу, качаюсь… А пламя бушует… плоть, – с трудом вымолвила она, – горит, и уже не о Господе мои мысли, не о том, что только Ему я невеста, а о том, чтобы меня мужчина взял. Пусть, думаю, мой помысел грех перед Богом, но ведь и Адам Еву познал, и с тех пор так оно и заведено, чтобы муж и жена едина была плоть, и если б совсем неугодно было Создателю брачное житие, Он бы корень этой страсти из нашей плоти, как сорняк из земли, выдернул бы, да и спалил. И с таким-то грехом, с такой язвой в сердце, в таком угаре я долго жила. И никому не признавалась. Исповедь – а про тайный помысел, меня сжигающий, молчу. Сестры мне: больна, что ли, так сохнешь. Молчу. Матушка-игуменья – она одна поняла, отчего я сама не своя – к себе в келью меня позвала и говорит: стисни, говорит, Валечка, зубки… я до мантии Валентиной была… молись, трудись, терпи, и страшный наш искуситель от тебя отступит. А я и у нее молчу, будто не понимаю, о чем она. Так и жила в пламени адском. И что, отец Иоанн, ты думаешь? Отступился от меня этот враг мой лютейший? Оставил в мире и согласии с монашеским житьем? Отпустил из своих клещей? Вроде бы я и очнулась от его наваждения, и дни у меня были светлые… В мантию когда постригали, у меня такой покой в душе был, такой свет невечерний я в себе чувствовала и такую любовь к Матери Божьей и Ее Сыну, что ничего тогда не боялась. Как Христос в пустыне все искушения отверг, так и я думала, что уподоблюсь Господу моему и встану в броне веры, врагу недоступная. Рука, может, у меня дрогнула, когда я три раза ножницы владыке подавала? Не дрожала у меня рука. И сердце не тосковало перед обетами. Пусть постническое житие, пусть умерщвление тела до последнего издыхания – зато с Господом мое обручение еще крепче! И коли бы так оставалось… Я поклоны ночами класть стала – по тыще в ночь! Только бы мне внутри себя чистоту восстановить. А бес меня все жжет и жжет. – Она прерывисто всхлипнула и мокрым от слез лицом припала к руке о.
Иоанна. – И беда еще какая, – глухо прозвучал ее голос, – матушка-игуменья долго жить приказала, и меня игуменьей… Я чуть не в голос кричу: не могу, не буду, не по силам мне эта ноша! Мое место на скотном, с овцами да коровами! Все-то небось думали, что я от страха Господня и скромности великой, а я, батюшка, себя боялась. Игуменья – она не только пример, она еще и власть. Полста с лишним душ – поди-ка управь! А я сама с собой совладать не могу… Но послушание паче поста и молитвы. Стала я игуменьей, и меня, особенно в первые годы, ну будто прорвало. К сестрам не с любовью, не с теплом сердечным, не с умилительной лаской – а все больше с гневом, с гордостью да с криком… Одна девочка новоначальная мне отчего-то невзлюбилась. Светленькая такая, волосы льняные, глазки синие, и видно, что слабенькая. А я ее в поле, картошку копать, я ее – дрова колоть… Какие дрова! Она топор подымет, а он ее за собой назад тянет. И старшие наши сестры ко мне приходили за нее просить, и духовник вразумлял, но мне будто сатана шепчет: гони ее, гони! Верочкой звали… Ну, говорю, колоть не можешь, ступай на конюшню, за лошадьми ходить будешь. А она мне: как благословите, матушка-игуменья. И чистыми своими глазками на меня глядит. И сама чистая передо мной, как я была когда-то… Мне бы ее приласкать, мне бы перед ней повиниться, мне бы другое какое ей послушание дать, полегче, ей по ее силенкам соразмерное, но враг мой сердце мне разжигает. Ах, думаю, ты чистая, а у меня места живого в душе нет… Ты, стало быть, Богу любезна, а я в очах Господних не иначе, как сосуд скверны. Но власть-то в обители покамест моя, и потому ступай-ка ты, раба Божья, за лошадками навоз убирать. Она и пошла. И там ее жеребец и ударил. – Мать Лидия резко выпрямилась. – Я тут давеча отцу Петру брякнула, что мы-де в монастыре от Бога не отступали. Про других говорить не буду, а я… Коли бы я не отступала, то Верочка живая бы сейчас была. Ее отпевали, все ревут в три ручья, а я, батюшка, веришь, ровно каменная. Ни слезинки. Приду, думаю, с кладбища и руки на себя наложу. Иуда Христа предал и удавился – а я чем лучше? Страх Господен меня удержал, только он, не то я бы уже давно… – Она надвинула платок по самые брови и умолкала. Мертво смотрели ее глаза в разгорающееся утро.
– Ну вот и слава Богу, – о. Иоанн положил легкую, сухую руку на ее голову. – Камень с сердца свалила, и смерть без страха примешь, и на Небо с чистой душой взойдешь. Господь везде, и везде Он Господь милосердный. Во грехе мертвы, во Христе живы. Так и ты. Живая ты, и живой пребудешь, потому что умираешь для Господа и с именем Его на устах. Господь и Бог наш Иисус Христос, – борясь с одышкой, медленно произнес он слова разрешительной молитвы, – благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо Лидия, вся согрешения твоя… и аз, недостойный иерей, – с торжественной скорбью сказал старец, – властию Его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. – Расстегнув ворот подрясника, о. Иоанн извлек нательный крест. – Приложись, милая, и меня слушай.
А ему в чем было исповедаться в близости смертного часа?
Уже на красноозерскую дорогу сворачивала телега, погребальные их дроги. И могилу, должно быть, вырыли для них под соснами Юмашевой рощи, и палачи ехали следом, не ведая, что собираются творить. Как ни стар и как ни грызут хвори, но пожить, Господи, еще бы хотелось. И поглядеть: а дальше что будет? И с нами, Боголюбовыми, и с Церковью, вдруг ставшею сиротой и Божьим попущением отданной на поругание, и со всем ослепшим милым, горьким, несчастным Отечеством. Ты, Россия, разве не видишь? не слышишь? не знаешь? Старика семидесяти шести лет сейчас убьют и, будто павшую скотинку, бросят в яму, закидают землей и уйдут, не поставив креста на месте его упокоения. И Лидию бедную, с истерзанной душой. И еврея, своим милосердием себя обрекшего смерти. Вместе умрем – и неужто Господь нас вместе не примет? А ты, Отечество, – восплачешь ли? ужаснешься ли сей казни скорой, неправедной и злой? прольешь ли скорбные слезы – и этими слезами очистишься ли? Старческими слабыми глазами он смотрел мимо Исая Боруховича, закрывшего лицо руками и раскачивающегося из стороны в сторону, мимо телеги, в которой сидели и лежали на соломе пятеро бойцов расстрельной команды, мимо окраинных домов града Сотникова, мимо церковных куполов, сияющих в лучах поднявшегося солнца, – мимо этого мира он смотрел в другой, идущий на смену, и сердце его сжималось от боли и тоски. Ибо в грядущей России он не увидел сострадания – ни к нему, убитому ранним погожим утром в Юмашевой роще, ни к Исаю и Лидии, полегшим с ним рядом, ни к одному из тех тысяч и тысяч, которых неотпетыми и неоплаканными приняла мученица-земля.