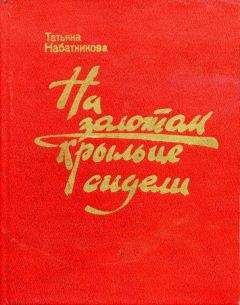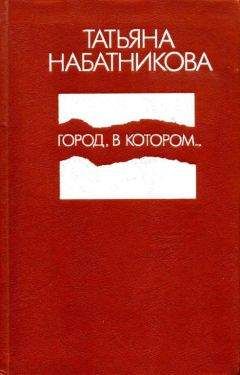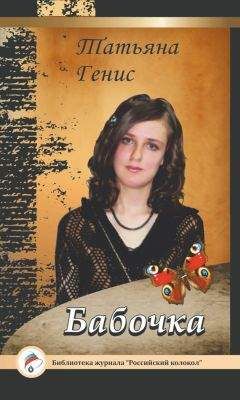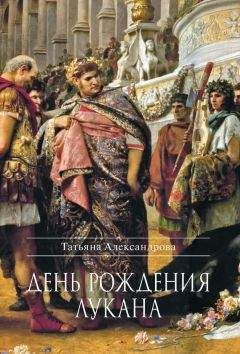День рождения кошки - Набатникова Татьяна Алексеевна
— Ну, я думаю, это не принципиально. Захочется — чего же не позвонить.
— А ты не боишься, что он хочет меня отнять у тебя, а? — с кокетством, может, и неуместным…
Конечно, неуместным! Тут же он и засмеялся, как смеются, жалеючи жалкого:
— Ох, Лорка, пощади, а то мне больше не о чем думать, как об этих глупостях!
Обидно. Тем более тогда позвонит.
Неделю пришлось ждать Сережиного дежурства: звонить надо без свидетелей, придется ведь спектакль играть: муж плачет, дети плачут… курица кудкудахчет.
И вот она — неузнаваемым голосом, корректно — оттуда:
— С кем я говорю?
— Да со мной, со мной ты говоришь! — радостно орет он, и Ирка улыбается, примкнув к его щенячьей радости, смеется и при начальных словах присутствует еще, а после уходит из комнаты, чтобы не нарушать этого трепетного их по телефону уединения.
— Сто лет прошло… — начинает она оттуда, он бодро перебивает:
— Не сто, а восемнадцать, каких-то всего восемнадцать лет!
— Восемнадцать лет, — медленно выговаривает она, — это очень много.
— Ты узнаёшь меня? — кричит ей.
— Нет, — рассеянно отвечает. В рассеянности ее, как он потом понял, обдумывая этот разговор, была сосредоточенная подготовка к главному, что она собиралась сказать.
— А я тебя тоже сперва не узнал, а вот теперь слышу: ты!
— Скажи, как ты живешь?
— Хорошо!
— Как у тебя в личном плане? — подчеркнула.
— Хорошо!
— Всё в порядке? — с некоторым даже недоумением.
— Да! — торопится он покончить с этим и перейти к главному, но к чему — неизвестно.
Чего-то он ждал от этого разговора — общей печали по их погибшей любви? Следов той любви? Чего-то щемящего: вот жизнь на исходе, а умершая их любовь — это была первая смерть, первый ущерб их бывшей полной, как луна, молодости. Теперь уже только серп от месяца остался — так оплакать его печальными сообщниками.
— Ты женат?
— Да! Я же рассказывал все твоему мужу, он не передал?
— Он передал.
— Почему ты ни разу не дала о себе знать? — Он перебивал, сбивал ее заторможенно-выжидательную речь, волнения он не слышал!
— Я не могла. Это тебе легко было позвонить мне, а я не могла: мне было бы совестно перед дочерью.
— Перед чьей дочерью? — немного оторопев, он приостановился в радостном своем аллюре.
— Перед моей. Ей шестнадцать лет. И еще сын — четырнадцати. И еще один сын — четырех лет, у него завтра день рождения, — печально и укоряюще произнесла она.
— Поздравляю, — пробормотал он, споткнувшись и переходя на пеший ход.
Это, стало быть, она его осудила. «Это тебе легко, а мне», дескать, с моей высокой нравственностью и чувством чести было бы стыдно перед моими детьми…
Лишившись своей телячьей радости, он растерянно стал поминать каких-то общих знакомых. Она без всякого интереса выслушала и, когда он замолчал, продолжила свое:
— Моя дочь — она знала, кто ты мне… И муж знал. Дочь плакала… Муж тоже не в себе. Не в своей тарелке. Твой звонок внес в нашу жизнь ненужное смятение.
Он попытался возразить:
— Да вроде мы разговаривали с твоим мужем… он, по-моему, ничего…
— Нет, он совершенно выбит из колеи и напуган твоим звонком, и вообще… — И сделав паузу: — Давай-ка мы не будем больше звонить друг другу. Ведь и твоей жене, наверное, неприятно, а? Она у тебя дома?
— Да, — смутившись вконец от упреков.
— И что, ничего? — насмешливо.
— Да, — утонув, захлебнувшись в позоре; боясь при этом, что Ирка, если ей слышно, а ей слышно, конечно, догадается, что его здесь отчитывают, как пионера; хотя бы для Ирки он должен выдержать весь разговор на первоначальной радостной ноте, и он вовсе замолчал.
— Так что ни к чему все это.
— Тогда зачем же ты звонишь? — наконец с отторжением выговорил он.
— Я? Ну, узнать, может, у тебя там не в порядке…
— Да нет, спасибо, всё в порядке, — холодно.
И молчание, он — оплеванный, осмеянный, застигнутый, как бобик, на пошлом поступке. Он голосу набрать никак не мог со стыда. Наконец выдавил:
— Ну ладно, Лариса, будь здорова.
— И ты будь здоров, — прощаясь. — Всего тебе хорошего, благополучия.
— До свидания. — Он отбросил трубку. Оттолкнул, отпихнул.
Минут десять сидел, притерпеваясь к той оплеухе, которую она ему нанесла. Ужасно было стыдно перед Иркой. Она ведь предупреждала: звонок легкомысленный, а главное — смутный в отношении цели: для чего? Ты будешь понят превратно. Ты внесешь ненужное беспокойство. Ты будешь смешон.
И вот: он смешон. Ларисина гордость, не пожелавшая играть в хорошие отношения по прошествии любви…
Разоритель могил, ворошитель праха, поделом тебе! Раскапывать могилку, чтобы встряхнуть свои воспоминания, — а о покойнике ты подумал, каково ему-то представать перед твоим праздным любопытствующим оком? Нельзя, нельзя, нельзя! Осрамился. Мучительное брезгливое чувство позора: так в детстве было, когда узнал про ночную жизнь людей, — хотелось отмыться, отскоблиться, отплеваться от этого знания. Была бы память доской, на которой написано мелом, взял бы тряпку и стер.
Освоившись с оплеухой, хоть она и краснела на его щеке, он поплелся к Ирке. С осторожностью рассказал. Что Лариса звонила лишь для того, чтобы оградить себя впредь от возможных его звонков. Ставящих ее в двусмысленное положение. Навязывающих ей ложную роль старой подруги, на которую она не согласна из уважения к своим детям, мужу и самой истине.
Другими словами, он опозорился перед высшим достоинством, вот.
— Молодец! — горячо одобрила Ирка. — Она молодец и умница! Она совершенно правильно поступила.
— Какое мужество, — продолжала восхищаться спустя время, — в этом нежелании ловиться на крючок интеллигентского притворства. Рухнула судьба — так уж навечно, подпорок не надо!
— Да, — приходилось ему соглашаться, — да, она в высшей степени твердый и нравственный человек. Не поддается на уловки «приличий».
Все же обидно. Это ее презрение, этот высокомерный выговор!..
А Ирка опять: правильно, правильно она поступила, так тебе и надо!
И долго еще они на тормозах спускали с души это событие. Наконец спустили, как корабль на воду. Уплыл.
А в доме подполковника Лариса сидела у смолкшего телефона и тоже переваривала разговор. «У меня все хорошо». Какого черта ты тогда звонишь, извини? Ужасное разочарование. Что-то ей удалось, а что-то нет. Наверное, было ошибкой беспокоиться, каково его жене. Но ничего, схлопотал по харе, по мордасам, будешь помнить. Как она его, а? «Давай-ка мы не будем больше звонить друг другу!» Ай да умница! Тут она молодцом. Тут была ему смертная казнь. То есть смерть их любви. Понимаете, смерть. Это когда впереди больше ничего не будет. Отсекновение будущего. Усекновение памяти.
Алика между тем кормили старшие дети на кухне, мучили его самолюбие, принуждали есть:
— Во-первых, вермишель, во-вторых…
— Вермишель — это первое или второе? — вопрошал он принципиально.
— Ешь и запивай молоком! — отвечали ему не по существу.
— Первое или второе? — домогался он точности.
— Сиди ешь!
Бежит к матери:
— Мама, вермишель — это первое или второе?
А мама тут в глубоком разочаровании и огорчении у телефона, навеки отключившего ее от прошлого:
— Алик, ешь что хочешь!
И тогда Алик заплакал, ни от кого не добившись своей правды.
И утешала его, прижав к себе, и сама же заплакала прямо в мягкие пахучие волосики. Бедные мы с тобой, самолюбивые непомерно, не по мере этой жизни, Альченька, плохо нам с тобой приходится.
А Валера в другом городе нет-нет да восстанет с обидой:
— Но ведь даже преступления не в счет за давностью лет! Конечно, я понимаю, высшее благородство ее натуры, но… вот представь себе, не будь она так достославно обеспечена своим женским счастьем — муж, дети, удачливость, — разве смогла бы она так надменно: «Мне было бы совестно перед дочерью!» Не демагогия ли это, когда человек поверх горки своей сытости водружает еще и красивый флаг незапятнанной чести? Гордыня чистой совести — не грех ли?