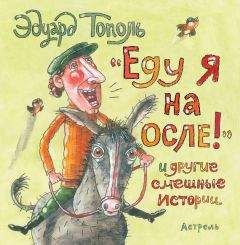Лора Белоиван - Маленькая хня
«Вот это да», — подумала я.
— Мы, врачи, страшные циники, — пояснил Чехов. Он поднял меня за шкирку и усадил на стул. Стекла pince-nez увеличивали его умные глаза и выступившие на них слезки.
— Спиртику? — сказал Булгаков. Он держал бутылочку из тех самых. Не соврали на вахте.
— А можно с апельсиновым соком? — выдавила я.
— Отвертку будешь жрать с этим, как его... Аксеновым, — строго сказал Антон Павлович, — а пришла к интеллигентным людям, так нечего.
— Так ведь он жив? — испугалась я.
— А какая разница, — сказали слева. Я обернулась и уже почти без всякого удивления увидела Григория Горина. Он сидел рядом и грустно накладывал на тарелку что-то рыбное.
Мы выпили. Поскольку никто не закусывал, из скромности не стала и я. К тому же проглоченный мною спирт явственно отдавал апельсином и не ударял. Я глянула на Вересаева, сидевшего напротив. Он хитро щурился. Стало стыдно, что ничего, кроме «Записок врача», я у него не читала.
За столом сидели еще какие-то люди. Но знакомых лиц больше не было.
— Лекари, — шепнул мне Горин. — Гинекологи. Окулисты. Терапевты. Хирурги.
— Почему в аду? — спросила я также шепотом, — убили кого?
— Пописывали, — лаконично ответил он.
— Перерывчик небольшой! — голосом тамады сказал Антон Павлович, и все снова подняли стопки. — А этой хлюзде больше не наливать, она сок выпила.
— Антон Павлович, будет вам! — улыбнулся Булгаков, —проявим снисходительность к девушке!
И протянул мне наполненный до краев граненый стакан.
На этот раз вместо сока там была галимая вода. «Как это они делают?» — удивилась я.
После третьей все откинулись на спинки стульев и закурили мой хай-лайт. Что-то я не заметила, когда из моих Рук исчезла принесенная дачка.
— Ну, говори, чего хочешь? — ободряюще кивнул мне Антон Павлович, — надеюсь, не драму приволокла?
Хихикнув, какой-то подхалим подал Антон Палычу пресс-папье. Впрочем, я и до этого твердо знала, что никогда не буду писать драмы.
— Очень надо поговорить с господином Булгаковым, — промямлила я. Я уже начала сомневаться, действительно ли надо.
Михаил Афанасьевич при моих словах вздрогнул, перестал кушать и внимательно на меня посмотрел. Я решила, что надо.
— Тю! Так можно ж было блюдечко повертеть, — засмеялся Вересаев.
— Блюдечко вертеть грех, — сказала я, потупившись.
— А-а, ну-ну, — сказали сразу несколько голосов. Булгаков отложил вилку и нож.
— Извольте, — проговорил он после долгой паузы, — Спрашивайте. Спрашивайте все, что вас интересует, но запомните: только ОДИН вопрос!
Ободренная, я набрала побольше воздуху — так, что даже закружилась голова — главный, главный вопрос! — и выпалила:
— Михал Афанасьич! Пожалуйста!! Объясните! как! вам! удавалось! писать! такие! выдающиеся! изумительные! бесподобные! вещи!! РАБОТАЯ ДНЕМ В ГАЗЕТЕ!!!
— Ну так в газету я ж всякое говно писал, — слегка удивился Булгаков и великодушно добавил: — Этот вопрос не считается.
— Так и я в газету пишу всякое говно, — понурилась я, — а все равно ничего хорошего не выходит...
— Говно говну рознь, — поднял указательный палец захмелевший и подобревший Чехов, — например, если оно у вас с зеленцой, то это, скорей всего, гнойные процессы, а если в красный отдает — то это тиф, а если...
— Оставьте, Антон Павлович! — мягко перебил Вересаев. — Сейчас ведь не об медицине, а об литературе речь!
— Ах, Викеша! Вся их современная литература — сплошное... клиника!
«Какой-то пьяный базар», — поежилась я.
— Ну, право, не стоит передергивать, — не согласился Вересаев, — Есть и у них кое-что. Например, «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом...».
Я истерично хихикнула:
— Викентий Викентьевич, это ж Лермонтов! Он уж почитай 150 лет как: умер на дуэли.
— Да?! Удивительно. Почему Антошку вижу. Мишку вот вижу, Вовку Гаршина и этого, новенького, Горина — тоже вижу, а Лермонтова — ни разу не видел?
— Он офицер и он в дисбате, — загадочно объяснил Булгаков.
«Спокойно», — подумала я.
Тут очень кстати Булгаков повернулся ко мне:
— Я предлагаю оставить господ докторов и поговорить у фонтана. А то ведь не дадут вам со мною пообщаться.
Я с готовностью сорвалась с места, хотя, если честно, было немного жалко уходить из-за стола, не попробовав фляков господарских. Я почему-то точно знала, что они тут есть, но не знала, как выглядят.
— Миха, трахни ее там! — выкрикнул кто-то из писателей, и все заржали.
— Пойди на Ясную Поляну, — ответил Булгаков скабрезнику и взял меня под руку.
— Захватите бутерброд, — сказал Горин, — Обязательно надо закусывать, — и подал мне пустой газетный сверток. «ПАРЛА», — было написано на нем. Все почему-то опять засмеялись. Я ускорила шаг.
Михаил Афанасьевич и я молча прошли метров пятьсот по каким-то сыроватым коридорам, пока в тупике за очередным поворотом не показался огромный неработающий фонтан. Мы сели на гранитный парапет, достали по сигаретке и помолчали еще немного.
— Ты, кажется, хочешь теперь спросить совсем о другом? — сказал Михаил Афанасьевич.
— Да! — я напряженно глядела на него. Он на меня — Довольно равнодушно.
— А разве ты еще не поняла? — ухмыльнулся он.
В том-то и дело, что поняла. Поняла. И все-таки спросила:
— Неужели все писатели попадают в ад? Булгаков зевнул:
— Еще поэты.
— Но почему?!!
— Потому что Слово... конкуренция, опять же... по кочану, в общем.
— И больше никого-никого в аду нет?
— Конечно, нет! — досадливо поморщился Михаил Афанасьевич.
— А черти? — голос мой дрожал, когда я задавала этот совершенно лишний вопрос.
Булгаков снова ухмыльнулся. Его глаза нехорошо сверкнули красненьким. Мне стало сильно не по себе.
— А ты как думала, — подтвердил он.
— А если я больше — ни-ни?
Я с отчаянием смотрела на Булгакова. Раздвоившись, он стек по моим щекам.
— Не по-лу-чи-тся, — проговорил по слогам Михаил Афанасьевич, и я уловила в его голосе плохо скрытое злорадство, — теперь только продолжать.
— Мамочки, — всхлипнула я.
— Да ничего. Привыкнешь.
— И что ж я тут буду делать?
— Известное дело, по специальности. Вот аграрии — пашут. Врачи — сама видела. Философы — дурака валяют. Инженеры — фонтаны строят... В общем, так сказать, что на становление повлияло и к писательству соблазнило, то и это самое.
Я была в шоке.
— Спиртику все ж таки надо было, — сказал Булгаков с не очень искренней заботой.
— Свидание окончено, — донесся издалека казенный голос, и я чуть не заорала от радости.
— Ну, пока! — прозорливый Булгаков даже хохотнул.