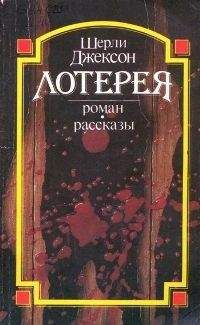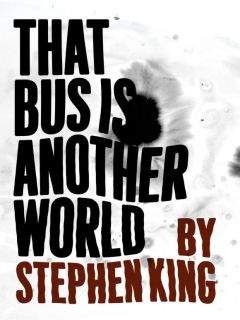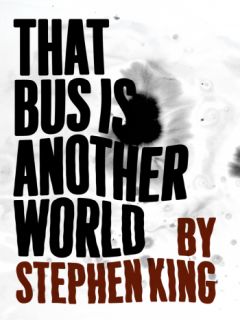Франц Верфель - Сорок дней Муса-Дага
Это мнение представляется вполне разумным. Ведь если, как то утверждает достопочтенный источник, «Фрат», или Евфрат, выходит из рая, то никак нельзя допустить, что рай находится где-то близ Евфрата. Но, признав это и отдав пальму первенства стране Армении, мы всего-навсего сделаем шаг к следующей правде…» (Томас Манн, «Иосиф и его братья», изд. «Художественная литература», Москва, 1968.)
____________________
Разумеется, добрая толика благодати, ниспосланной горе, досталась и ее семи деревням. Насколько же не идут в сравнение с ними жалкие селения, которые попадались Габриэлу по пути на равнине! Здесь, на горе, не было глинобитных лачуг, похожих скорее на прибитый к берегу ком ила, в котором вырыли темную нору, где ютятся вместе люди и скот. Дома на Муса-даге чаще всего строились каменные и в каждом имелось несколько комнат. Вокруг наружных стен – маленькие веранды. Двери и окна блистали чистотой. Лишь в немногих домиках окна, как это в обычае на Востоке, выходили не на улицу, а во двор. В густой тени, которую отбрасывал на землю Дамладжк, царило доброжелательство к людям и процветание. А по ту сторону тени начиналась пустыня. Тут виноград, фрукты, шелковица, террасы над террасами, там – равнина с однообразными полями, засеянными кукурузой или хлопком, между которыми, как кожа нищего сквозь лохмотья, порой проступала голая степь.
Однако дело было не только в благословенной горе. Еще сейчас, спустя полвека, приносила плоды энергия дедушки, Аветиса Багратяна, или, вернее – любовь этого предприимчивого человека, которую он без остатка отдал клочку родной земли, наперекор всем соблазнам мира. И теперь его внук с изумлением смотрел на здешних людей – они казались ему до странности красивыми. При виде Габриэла стоявшие кучками люди умолкали, поворачивались лицом к нему и громко приветствовали:
– Ваri irikun – добрый вечер!
Он заметил – а может, ему померещилось – в глазах этих людей затеплившийся огонек, искорку радостной благодарности, и ему подумалось, что это относится не к нему, а к старому благодетелю Аветису Багратяну. Женщины и девушки провожали Габриэла испытующим взглядом, продолжая прясть, – маленькие веретенца так и мелькали в их проворных руках.
Эти люди были ему не менее чужды, чем сегодняшняя толпа на базаре. Что общего у него с ними, у него, кто всего несколько месяцев назад ездил гулять в Воis*, посещал лекции философа Бергсона,** беседовал со знакомыми о книгах и печатал свои статьи в изысканных журналах по искусству? И все же от этих людей исходило необычайное спокойствие. И у него возникло к ним какое-то отеческое чувство – потому что он знал о надвигающейся опасности, в то время как они ни о чем не подозревали. Он затаил в душе глубокую заботу, – он один должен был защищать этих людей от беды, пока возможно. Старик Рифаат Берекет не беспочвенный мечтатель, хоть и сдабривает речь восточными притчами. Он сказал правильно: «Оставаться в Йогонолуке и ждать». Муса-даг лежит в стороне от мира. Если гроза и грянет, она пройдет мимо Йогонолука.
____________________
* Булонский лес (франц.).
** Бергсон Анри (1859-1941) – один из крупнейших западных мыслителей конца XIX и первой Половины XX века, философ идеалист, представитель так называемого «интуитивизма» в философии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1927 г.
____________________
В нем росло теплое чувство к землякам. «Так радуйтесь жизни подольше, завтра, послезавтра…» И, не останавливая коня, он в знак приветствия поднял руку, как бы благословляя их.
Прохладной звездной ночью поднимался он по аллее к дому. В густую листву, словно в кокон, замкнули его деревья, отстранили от мира, как случалось ему в бытность «человеком в себе», в том благостном «состоянии абстрактности», из которого его вывел нынешний день, чтобы дать почувствовать всю иллюзорность такой защиты от мира. Усталость вновь пробудила в нем это приятное заблуждение.
Он вошел в просторную прихожую. Старинный, кованого железа, фонарь, свисавший с потолка, порадовал его своим мягким светом. По непостижимой прихоти сознания эта висячая лампа ассоциировалась у него с образом матери. Не той пожилой дамы, которая встречала его поцелуем в безличной парижской квартире, когда он приходил из гимназии, а тихой услады тех дней, более нереальных теперь, чем мир сновидений.
– Hokud matagh, kes kurban.
Говорила ли она в самом деле эти слова на сон грядущий, склоняясь над его детской кроваткой?
«За тебя, душа моя, крест приму».
Осталась еще лампадка перед богоматерью в лестничной нише. Все прочее носило отпечаток эпохи Аветиса-младшего. А это, если судить по прихожей, была эпоха охоты и войн. На стенах висели охотничьи трофеи и оружие – целая коллекция допотопных бедуинских ружей с неимоверно длинными стволами. Однако о том, что их чудаковатый обладатель не был подвержен грубым страстям, свидетельствовали великолепные полотна, светильники, старинные шкафы, ковры, которые он привозил из своих странствий и которыми теперь восхищалась Жюльетта.
Пока Габриэл в состоянии полной отрешенности поднимался на второй этаж, до него почти не доходил гул голосов снизу. Между тем именитые люди Йогонолука уже собрались в гостиной.
Он долго стоял у открытого окна в своей комнате, не сводя глаз с черного силуэта Дамладжка, который в этот час выглядел особенно внушительно.
Минут через десять Габриэл вызвал звонком слугу Мисака: после смерти Аветиса-младшего Мисак вместе с управляющим Кристофором, поваром Ованесом и другой прислугой перешел на службу к Габриэлу.
Габриэл помылся с ног до головы, переменил платье. Затем вошел в комнату Стефана. Мальчик уже спал крепким младенческим сном, его не разбудил даже колючий луч карманного фонарика. Окна были открыты настежь, в вещей дремоте медленно раскачивались кроны платанов. Черный лик Муса-дага был виден и отсюда. Но за линией гребня разливалось ровное сияние, словно за горным хребтом скрывалось не самое обычное море, а море светящейся материи.
Багратян сел на стул подле кровати. И, как утром сын подслушивал, что снится отцу, так сейчас отец подслушивал сны сына. Но ему это было дозволено.
Лоб Стефана – в точности его, Габриэла, лоб – сиял прозрачной белизной. А подо лбом тени – сомкнутые глаза, словно два листика, занесенные ветром. И какие эти глаза большие, было видно даже сейчас, когда их смежил сон. А вот нос – остренький, тонкий – не отцовский, чужой; мальчик унаследовал его от Жюльетты. Стефан прерывисто дышал. За стеной его снов скрывалась бурная жизнь. Он крепко прижимал к телу сжатые кулаки, будто натягивал поводья, пытаясь сдержать скачущие во весь опор сновидения.