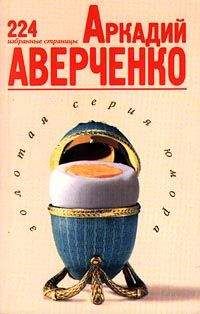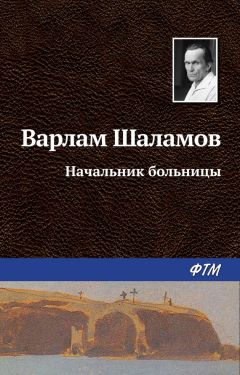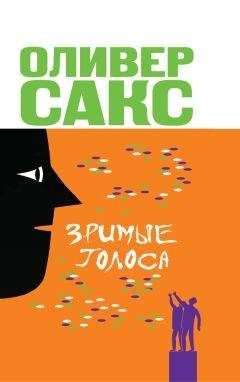Паскаль Брюкнер - Мой маленький муж
И все же Соланж, сменив гнев на милость, дала ему последний шанс: она отнесла самолет в мастерскую, где его починили. Однако по утвержденным ею новым правилам летать ему позволялось только от чулана до гостиной и обратно. Остальные комнаты были закрыты для воздушного транспорта. При первом же нарушении, предупредила Соланж, самолет будет конфискован и выброшен на помойку или даже уничтожен, по решению уполномоченной комиссии (единственным членом которой была она сама). Леон обещал, Леон поклялся — но, как только вновь стал покорителе неба, забыл обо всем. Он снова один в вышине, в стратосфере, и жители Земли с их дурацкими правилами ему не указ. Глядя сверху на макушки своих малышей, на непокорный ежик мальчиков и аккуратные косички девочек, он думал, что мог бы сделать чудесные снимки — Земля с высоты птичьего полета, — и воображал себя орлом, созерцающим с горних высот жалкое стадо людишек. Он был избран Провидением, один из всех, и уменьшен, чтобы возвыситься. Он будет делать что хочет и летать, куда ему вздумается, а обитатели квартиры пусть сидят и помалкивают.
И вот однажды вечером произошла катастрофа. То ли Леон устал, то ли выпил лишнего — да, он начал попивать, стащил у Дубельву виски и частенько прикладывался к бутылке, — как бы то ни было, он вылетел перед ужином со своего частного аэродрома, не проверив прикрепленные под крыльями топливные баки, каждый из которых вмещал по капле топлива. Запас автономного хода у «этажерки» был невелик. Когда Леон лихо влетел в столовую, где семья ужинала под благожелательным присмотром Дубельву, обсуждая футбольный матч, двигатель вдруг дал сбой и отчаянно зачихал, грозя заглохнуть. Пилот запаниковал, схватился за рацию и просигналил «SOS», но диспетчеры сидели за столом, и ответить было некому. Он хотел заложить вираж над висевшей в середине комнаты люстрой — это похожее на огромный торт изделие венецианских мастеров с множеством сверкающих и переливающихся хрустальных подвесок Дубельву подарил Соланж по случаю их помолвки. Но двигатель заглох окончательно, самолет стал терять высоту, вошел в штопор и со всего маху врезался в хрустальное великолепие, которое брызнуло осколками во все стороны и опасно закачалось над столом.
Это была не просто аварийная посадка — это был полный крах. Осколки стекла и хрусталя дождем сыпались в тарелки, в стаканы, в кушанья. Соланж, дети и Дубельву ахнули в один голос: «ЛЮСТРА!», и профессор, проявив быстроту реакции, толкнул детей и свою ненаглядную невесту под стол, в укрытие. Леон не только погубил аэроплан, но и сам сильно пострадал — у него были разбиты надбровные дуги, сломаны ребра, исцарапано лицо. Уцепившись за латунный каркас, он сумел выпростаться из кабины, которая чудом осталась цела, и приготовился прыгнуть с парашютом. Но тут у него закружилась голова, он оступился, хотел ухватиться за обломок фюзеляжа, не дотянулся и полетел вниз, прямо в окутанную аппетитным паром супницу, в которой остывал крепкий куриный бульон с овощами и вермишелью, приправленный красным перцем, — любимый суп Дубельву.
«Плюх!» — раздался громкий всплеск, Леон сразу наглотался жидкости, пошел ко дну и, оттолкнувшись, вынырнул на поверхность среди громадных вермишелевых букв, похожих на обломки кораблекрушения, с полным ртом ошметков вареной моркови и лука. Кашляя и отплевываясь, он позвал на помощь. Хрустальный ливень кончился, люстра раскачивалась и вибрировала, точно подбитый дирижабль с дырой посередине. Домочадцы выбирались из-под стола, оценивая масштабы катаклизма. Дубельву взял инициативу в свои руки: призвав всех к осторожности, он пошел на поиски стремянки. Дети, все четверо, как по команде, склонились над супницей, и в их глазах, смотревших недобро и разочарованно, Леон прочел одну и ту же мысль: «А не утопить ли его прямо сейчас?» Не было в его жизни ничего ужасней этой минуты, когда четыре прелестные детские мордашки безмолвно вынесли ему роковой приговор. Их лица расплывались над ним, и ему мерещились злобные гримасы непреклонных судей. К ним присоединилась Жозиана, ее толстый красный палец опустился на голову Леона. Ей было достаточно чуть-чуть согнуть фалангу, чтобы он исчез в густых мутных водах навсегда. Так бы и случилось, не вмешайся вовремя великодушная Соланж: она взяла кофейную ложечку, подцепила его и бросила в полоскательницу. Он шлепнулся на дно, ни жив ни мертв.
Соланж не проронила ни слова. Бледная, с перекошенным лицом, до синевы сжав губы, она швырнула его, как мусор, в чулан и заперла дверь на ключ.
Часть третья
Невзгоды и спасение
13
Изгнание дебоширa
В считанные минуты Леон потерял все, и в первую очередь — благоволение Соланж. Она была так сердита на него за гибель люстры, что решила покончить с этим недоразумением, в котором ничего не осталось от ее переменчивого мужа — даже былого сказочного отростка, доставлявшего ей некогда столько радости. В его бесчинствах она видела подтверждение спорного закона, согласно которому беспокойство, доставляемое индивидом, обратно пропорционально его размерам. Она видела в нем досадную неуместность, что-то вроде насекомого, особенно неприятного оттого, что его едва можно было разглядеть невооруженным глазом. Какой-то бес сыграл с ними злую шутку, принес несчастье в их семью, и Соланж, вслед за Жозианой, задавалась вопросом, не был ли и впрямь Леон детищем Лукавого, посланным им во искушение. Дубельву уговаривал ее покончить с ним раз и навсегда. Официально Леон уже считался мертвым — оставалось убрать его тайно от детей. Например, бросить в туалет и спустить воду — чего проще? Но Соланж была слишком набожна, чтобы решиться на такую крайнюю меру.
Она просто выкинула своего диковинного муженька, как игрушку, которая была хороша, пока не прискучила. Леон был обречен на пожизненное заключение в одиночной камере. Соланж знать больше не желала этот эрзац. Ее единодушно поддержали дети: они были только рады дать выход своей неприязни к Мозгляку. Мысль, что он мог быть причастен к их появлению на свет, не укладывалась в их головенках. Как они могли ощутить хоть маломальскую связь с Леоном, допустить, что этот клоп когда-то оплодотворил женщину, приходившуюся им матерью, что они родились от их взаимной страсти, если в Соланж они бы легко поместились все четверо, даже теперь, когда Батисту было восемь, а близнецам два года? В их семье главой всегда была мама, за сильный характер ее уважали и побаивались, по этой же причине ее нового жениха, профессора, приняли безропотно. Она наказала всему выводку никогда больше не произносить на людях слово «папа» — нехорошее, гадкое слово! — мол, если о нем не говорить, со временем он сам собой «рассосется». И никто в доме не упоминал о Леоне, но по ночам дети видели его во сне.
Соланж была безутешна после потери люстры; стресс оказался слишком силен даже для нее, и она, по совету Дубельву, купила аппарат для расхода детской энергии. Принцип вы, конечно, знаете: сейчас в каждой школе есть такая машина для гиперактивных детей. Она похожа на стиральную, только побольше: можно засунуть троих сразу. Все просто: помешаете детей в барабан, привязываете ремнями, чтобы они не падали друг на друга, и выбираете режим — утомить, изнурить, довести до изнеможения. От вращения на больших оборотах подопытные свинки теряют сознание, а когда приходят в себя после остановки, безропотно идут спать. Всем четверым, сразу возненавидевшим эту машину, полагался сеанс по субботам и воскресеньям: Батиста, самого большого, загружали в одиночку, остальных троих вместе. Леон содрогался, слыша их вопли.
Будь его воля, он запретил бы Соланж прибегать к таким жестокостям (хоть и вполне законным, ибо машина, в просторечии называемая «изнурителем», могла утихомирить самых неугомонных детей лучше любых телепередач и компьютерных игр). А Дубельву, наоборот, ратовал за этот метод: он хотел, чтобы Соланж в выходные принадлежала только ему. Она и сама иной раз залезала в машину, когда страдала бессонницей или страхами, и, выбравшись оттуда на полусогнутых, едва могла добрести до постели.
В начале заточения Леона хоть и впроголодь, но кормили: раз в день Жозиана отпирала дверь и, язвительно ухмыляясь, ставила прямо на пол плошку с тремя зернышками риса, долькой апельсина, хлебной корочкой. Никто больше не баловал его перепелами и марочными винами, кулинарными шедеврами и деликатесными сырами. Через пару недель и этот скудный паек поступать перестал. Только тогда Леон понял, что его не просто заперли в наказание на какое-то время, нет — его заживо похоронили. К счастью, у него был небольшой запас продовольствия, сделанный в лучшие времена.
Итак, Леон, муж своей жены, ставший ее сыном, а затем игрушкой своих детей, должен был окончить свои дни насекомым, от которого вся семья мечтала избавиться. Печальная участь — остаться вечным скитальцем за чертой мира людей, кануть в другое измерение. Дверь оставалась запертой, его вычеркнули из жизни. Он звал, кричал что было сил: «Дайте поесть, я голоден, я жрать хочу!» Его голос не мог пробиться сквозь толщу стен. Даже кошка, казалось, поставила на нем крест: она перестала скрестись с мяуканьем в дверь, видно, как лакомство он ее больше не прельщал.