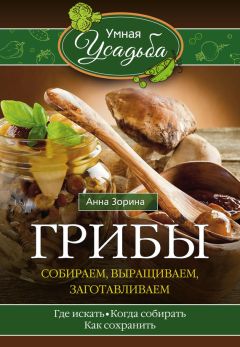Юрий Милославский - Укрепленные города
Ехали – и приехали. Обиталище мое: английская колониальная крепостца, выстроенная стандартным квадратом с полу башней. «Джип» покатил дальше, в тренировочный лагерь у холма Дом Божий, а я, сквозь спецворота, мимо двух одурелых в касках, мимо фанерных щитиков с надписями «Пот сохраняет кровь», «Солдат, отдавай честь командиру», приблизился к комнат дежурного офицера. А дежурный-то офицер – подпоручик Дан, мой непосредственный, оттого и решился я попросить увольнительную, а он – отказать не решился. А если б я ее не получил? Что сделалось бы там, на улице Нарциссов, на который бы день появился у того замка околоточный надзиратель? А мне бы кто сообщил? А никто.
Англичане внешние крепостные дворы засаживали соснами, а посредине внутреннего насыпали клумбу с пальмою посредине. Где пальмы сохранились, где – нет. У нас-то пальма жила хорошо, и укреплена на ней целлулоидная стрела с информацией: «Столовые младших командиров». Наружные сосны творили северный шумок, а внутренний дворик молчал, огорошенный прожектором, слишком мощным для такого маленького. Я стоял в кольцевом коридоре, смотрел на пальму в окно; заходить в подпоручикову комнату было неполезно – Дан веселился по телефону, занимать который без нужды не разрешалось. Да и то, с чем я пришел к нему, перешибло бы Дану военную радость допустимого нарушения – обетованными молоком и медом дышит в трубку подпоручикова Яэль, когда отвечает он неопределенно на ее «Где ты, когда ты...»
Я желаю застрелить тебя, подпоручик Дан, братуха по званию и умению старший; застрелить – из твоего собственного кляча (так прозван нами Калашников), желаю по насильничать твою Яэль, да так, чтобы ты видел. Ты прости меня, подпоручик Дан, за то, что я не прощу тебя. Я обвиняю тебя в том, что ты не я, что Яэль твоя – жива, в том, что не волочило вас три с куском тысячи километров друг за дружкой, – в том, что я слушал твою команду, когда Анечка включила московский электрокамин, затворила ставни, но не согрелась.
И замочила трусики, и обновила краску на ресницах, слушая вашу, Дан и Яэль песенку, не понимая ни единого слова. А вы, Дан и Яэль, заключите вскорости брачный контракт, и на свадьбу станут дарить вам деньги – наличманы и чеки – и вы возьмете в банке одну льготную ссуду на квартиру, а другую, нельготную, на машину. А мы с Анечкой придем к вам в гости, и вы угостите нас кофием типа «болото» – ложку молотого прямо в стакан с кипятком. Анечка наденет свое новое платье-хламиду с антикварным узором, препояшется полоской кожи без пряжки, на ней же висит она сейчас и тлеет, покуда я жду окончания вашей, Дан и Яэль, беседы. Я знаю, Дан, ты – не виноват, а Яэль – та и вовсе непричем, но хватит вам, мне надобно возвращаться...
Кто? – спросил подпоручик.
– Это Ави.
– Заваливай.
Завалил.
– Все-таки вы, русские, культурные. Наш дурбило и не знает, что в двери стучат, когда войти хотят. Ну, как ты?
– Дан мне бы обратно вернуться... У меня там несчастье.
Все, рассказанное мною, больше всего походило на подлую и жалобную брехню? на частые у молодых солдат припадки безумия – вырваться с базы во что бы то ни стало. Тогда идет в ход самопальная справка о смерти родителей, тогда рискуется семьюдесятью днями тюрьмы за семь дней до дембиля.
Дан мотался по комнате, пиная ногами в рыжих ботинках десантника разбросанные по полу коробки из-под сигарет.
– Да будет благославенна ее память, – сказал он. – Куда ты, к черту, поедешь?! Пошел ты к ебени-мать. Давай-давай, иди уже!!! Кофе хочешь? Посмотрел бы ты на свою рожу... Выпьешь кофе – тогда пойдешь.
– Я в городе зайду в кафе.
– Какое кофе?! У тебя что – денег много? Правда, я сожалею. Милосердный Господь! Молодая девка, страшное дело... У нее проблемы были?
– Дан, ты мне подпиши отпускную, а то военная полиция...
– На ключ, пойди в капральскую, возьми и шкафу бланки и печать. Засратая жизнь, засратая база, засратые арабы. Как мы живем, как мы живем по-идиотски! Ави, и сожалею, держи хвост пистолетом, да будет благословенна ее память... На чем ты поедешь?
И подпоручик Дан собственноручно разбудил дежурного шофера, дрыхнущего с восьми вечера – велел ему отвезти меня в Иерусалим. Дежурный шофер от спросонной неподготовленности заорал было: «Почему это именно я?! Давай «форму 55» для претензий!» – но сходу сообразил и свои выгоды.
Не доезжая двух кварталов до улицы Нарциссов, я вылез. Дежурный шофер развернулся по военному, – так, что все нарциссы завяли от дзизга тормозов, – и покатил в ночную бильярдную «КЛУБ 2000» – сыграть партию. «Плюс-минус час роли не играют, правильно, Ави?» «Правильно, дежурный шофер».
А я вернулся к Анечкиной двери, взломал ее по-новой, вызвал по телефону семьи Хизкияу полицию и «красный шестиконечник». Приезжайте помогать, приезжайте помогать, приезжайте помогать.
Они помогали Анечке до десяти часов утра – сначала в квартире с трусиками в мыльной воде, затем в больничном морге. В десять с половиною часов утра нас с Анечкой повезли на кладбище. Там три мужика из погребального братства отпели и зарыли Анечку за счет Управления Национального Страхования, Министерства Социальной Поддержки, Министерства Вероисповеданий и Муниципалитета Нашей Столицы.
Мужики были в темных сермягах, широких плоских шляпах и резиновых сапогах. Двое зашвыривали Анечку в торбе землей, а третий читал заупокойную молитву. Когда дочиталась молитва до «имярек», я подсказал:
– Анна, дочь Давида.
2
Эх-да! многовековые его страдания.
Эх-да! доблесть его и героизм, стойкость! его и мужество, культуру его богатую! и многогранную, возрождение его национальное, единство его пред лицом опасностей, плечи его могучие, прошлое его славное, настоящее его героическое, будущее его легендарное –
Не люблю.
Знаю, что нехорошо, а не люблю. Хуже! того – ненавижу.
Миссию его историческую, моря и долины его бескрайние, пустыни его, которые время от времени переходят в цветущие сады – и обратно в пустыни.
И его – эх-да! – многовековые страдания. Они, страдания, невероятно продолжительны. Но великий ...ский народ ухитрился тем не менее уцелеть. Не сдох до сегодняшнего вечера.
Патриот. Патрио-от! Иди сюда, гнида.
Скажи, какой именно народец я позволил себе иметь в виду?
Угадал.
И ты прав, и ты прав, и ты прав.
Эх-да сидим мы на диване: я и Верста Коломенская – Анечкино наследство, подружка Анечкина по языкообучилищу для молодежи в сельскохозяйственной колонии «Рассветные зорьки». Языка ни та, и другая не выучили.
Сидим. Я – наркотический препарат курю, – сокращенно называется дурь, а Верста – пьет водку «Люксусова» – здешнее производство, секрет вкуса – восточно-европейский.
– Слышь, Верста, – говорю я.
– Какого тебе? – она отвечает.
– Историю одну вспомнил.
– Ну?
– У нас там на матлингвистике один черножопый был. Раз бутыльчик «Плиски» – помнишь? – взяли и пошли в интерклуб, – поддать в кафе. Я у него спрашиваю:
«М"бей, а чего вы все воюете, на хер оно вам всралось?..»
– А на каком, интересно, языке вы говорили?
– На английском. Язык Британского Содружества Наций.
– А как будет «всралось» по-английски?
– Что я тебе, полиглот?
– Не знаешь...
Верста совлекается с дивана, совершает виток волнистых оборотов, – вроде агонийной юлы, – но не заваливается, а становится в позу женского пренебрежения к собеседнику.
– Морда подлая, не знаешь?! Так – не пизди. Понял? А то выгоню на хуй – и пойдешь ночью пешком до своего Иерусалима.
Трясучий, расстроенный, культурный мой улыбец.
– Чего ты. Чего ты озверела, дебильша? Я ж... Я ж вскрыл дурью бессознательные зоны. И отдаю тебе глубочайший интим...
Руки к ней, руки к ней. За каолиновые треугольнички бедер. За треугольнички – тяну на себя. Ты такая длинная, Верста Коломенская.
– Ну? – говорит Верста.
– Да, родненькая.
– Давай, что ты там хотел стравить. Про негров.
– Даю. Так я у него спрашиваю, почему они воюют. А он несет: «Люди племени Ибо напали на людей племени Йорубе. Тогда люди племени Йорубе напали на людей племени Ибо. Тогда люди племени Ибо убили много женщин и детей племени Йорубе. Тогда люди племени Йорубе убили еще больше женщин и детей племени Ибо. Тогда люди племени Ибо обратились в Организацию Объединенных Наций...»
А дальше – нет здоровья рассказывать: хохочу глубинным небом до раздирания слизистой, – хохочу, а остановиться не могу. Дурь слабеет, торчаловка – сходит.
– Что в этом смешного? – выясняет Коломенская.
– А кто его знает?.. Полагаю, что речевые средства комического.
– Ты такой, мудак, сложный, ты такой, блядь, непонятный, ты такой...
– Верста, – заявляю я. – А почему ты yа меня прешь? Я очень хороший и гениальный. Я к тебе очень хорошо отношусь. Я тебя люблю, Верста.