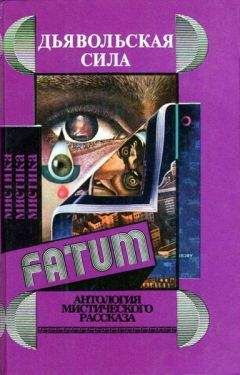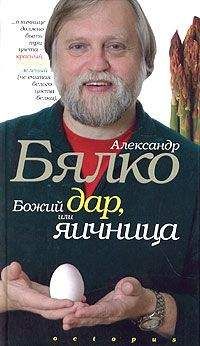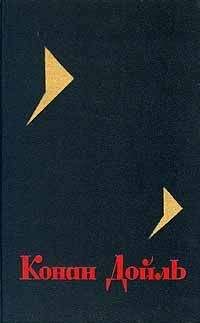Валерий Болтышев - Яичница из одного яйца
Он смотрит не в зеркало, а в окно. Но это как бы все равно что и в зеркало, потому что в вялом осеннем предрассветьи, в шевелящихся клочьях неба ему, гипертонику, видится какая-то зазеркальная бредь, вроде пожара в небесах – с круговертью каких-то рож, бряканьем и визгом, и пьяным Санчиком верхом на бледном Фомине, трубящим в пожарную трубу.
Но это пустяки.
Кто любит арбуз, а кто – свиной хрящик.
Кто видит пожар, а кто, попивши раннего чайку, говорит, что будет дождь и на рыбалку надо взять плащ. И трудно сказать, кто из них проницательней глянул на то, что есть на самом деле: немножко туч, немножко звезд и чуть багровый восток.
И, может быть, правее всех воскресший сдуру от сна еще один товарищ по трюмо: не пророчащий бед, не пристающий к небесам с гамлетовым быть или не быть дождю, а лишь по привычке задравший кверху тихую спросонок мордочку.
Ждет ли, ищет ли чего его взгляд, иль просто заходится вширь, на манер длинного зевка – об этом не знает даже он сам. Но сам он не ждет ничего.
Ибо нет ничего скучней, чем ненароком вычленить из облаков именно то, чего ждал: усы, очки и три отпечатанные на лбу пуговки.
При длительном смотрении все это может как бы улыбнуться. И сказать "чу-чу".
ГЛАВА ПЯТАЯ
Как всякий выныривающий из отхожего места, Фомин сперва опасливо глянул наверх. И тут же отпрянул в сторону, заметив над собой чей-то небольшой зад. Выплюнув загубник, он прохрипел "Эй, там…"
– Ага, ага, здесь! – откликнулся зад.
– Чего "ага"! Уберись отсюда, ты!
– Куда?
– Туда! Уберись, говорю!
– Дак я же… Я же – встречать,– пояснил зад.– Это же я, господин Фомин! Не узнали, что ли, да?
И обмахнув маску, Лев Николаевич увидел, что это не зад, а племянник Славик, заглядывающий в дыру лежа на животе.
– Лестницу давай,– приказал он.– Живей.
Замечено, что страдания развивают душу. Не совсем ясно, относится ли это впрямую к плаванью во тьме, но даже скудомысленный Славик с первого взгляда мог бы понять, что перед ним Фомин с окрепшей душой – жесткий, жилистый и несколько, пожалуй, хамоватый человек. Правда, Славик не знал его толстым и не гадал теперь, как это следует объяснять: действием ли страданий, свойством инъекций или же сказочной метаморфозой от ныряния вообще, в духе "Конька-горбунка".
Дожидаясь, пока Фомин выберется наверх, он просто поглядывал на часы. А дождавшись, пообещал принести шланг.
– Нам ведь горячую включили! – крикнул он издалека.– На презентацию-то. А выключить забыли! Моемся теперь, ага! Я щас.
– Живей,– приказал Фомин. Насколько новым человеком чувствовал себя он сам, сказать сложно. Новизна выражалась, в основном, в торопливости. Но куда именно он спешит, Фомин как бы не понимал.
На плаву, в ожидании лестницы, ему казалось, что надо как можно скорей, взявши маску за ремешок, что есть силы звездануть Славику по башке – гвоздодер он обронил. Однако уже на первых ступеньках вдруг захотелось быстро узнать, какого черта на этом дураке оранжевый путейский жилет и отчего прежнего дядю идиот настойчиво именует господином, и вообще – о чем он так много и бестолково говорит?
Конечно, все это было полной белибердой, и на самом деле нужно было что-то другое, и в результате некоторое время Фомин лишь нетерпеливо переступал с ласта на ласт, расшибая собой горячую струю и представляя Славика, чтоб не мешал, чем-то вроде мелкой подножной собачки, которая путается под ногами и не дает спешить куда следует.
При всем том – само собой – он спешил как следует отмыться, потому что фекальная вонь чудилась ему везде. Даже в словах.
В то же время по нему работали сразу два шланга, и второй шланг, Славик, почти видимой дугой испускал поток слов про какого-то Федотова, который сперва Славика ругал и даже обозвал два раза, нехорошо (ну… чем мать родила), но после пообещал взять составителем поездов, а господина Фомина велел поскорей встретить и, помыв, поскорей проводить. Поверх того Славик сетовал, что господин Фомин не пускал пузыри (хоть бы пузыри пускали, вы-то), все на презентации волновались и ждали его (ну, всем же надо, сюда-то, а вы – там), а без пузырей непонятно – там или где, и с этим вот вышла заковыка, а вообще презентация прошла хорошо.
– Какая еще презентация? – нетерпеливо спросил Фомин.
Этого Славик объяснить не умел. Пожевав невнятные слова, он просто вынул из оранжевого кармана две открытки и протянул их Льву Николаевичу, и, пока тот ковырялся в письменах, направлял струю ему в бедро.
На одной открытке были нарисованы паровозик и объявление о презентации разъезда "Сортировочный", со шведским столом и праздничным фейерверком. Вторая открытка приглашала на вечер встречи выпускников интерната, и под колокольчиком, с неразборчивой юбилейной вязью на нем, располагался стих:
Весь просторный и красивый
В этот юбилейный год
Интернат, вполне счастливый,
Всех питомцев в гости ждет.
– Стихотворение-то, ага, ваше,– покивал Славик.– Маленько переправили только. Ага?
Оба приглашения адресовались г-ну Фомину и были подписаны факсимильным Федотовым.
Что-то понять здесь было еще сложней, чем в Славиковой болтовне. Но не нашедший выхода в отстойнике, Лев Николаевич отчего-то неожиданно быстро определил, что Федотов, по всей вероятности, есть в очередной раз сменившееся начальство, ибо лопоухая фамилия никак не вязалась с бамперным ликом пастора.
Что здесь хорошо, а что нет, и так ли все на самом деле вообще – это еще предстояло понять. И Лев Николаевич вспугнуто замер, насторожив стоячий венчик седых волос. Но Славик, помотав шлангом, уже журчал про то, что на вечере выпускников г-на Фомина тоже ждали все, потому что думали – может, будет выступать.
– Когда? – опять буркнул Фомин.
– Чего? – не понял Славик.
– Ждали когда.
– А! Да вчера! Думали – может, выступать…
– Так он что – был?
– Вечер-то? Ну да, вчера. И презентация вчера. Решили потому что совместить, вместе. Два раза чтоб не собираться. Все равно потому что…
– Постой. Вчера? – сказал Фомин.– Так сколько же я…– и недоспросив, указал на ласт.
– Ну-у… не знаю,– сказал Славик и помыл ласт струей.– Федотов не говорил. Сказал встречать, и все. А вы нырнули которого?
– Не твое дело,– помолчав, отрезал Фомин. Чувствуя очередной прилив чепухи, как чувствуют начинающийся приступ язвы, он подумал на всякий случай, что Славик, в сущности, дурак дураком. И, сковырнув ласт об пол, зашвырнул его за кучу выкорчеванных унитазов.– Давай завязывай баню свою! Живей…
Помимо шланга бывший племянник приготовил одежду, а в жилетном кармане имел полотенце и гребешок. Но Фомин, сперва разбросав снаряжение, а затем так же раздраженно напялив пижамные штаны и пальто, велел закрыть и парикмахерскую. Он продолжал спешить, теперь уже наверняка ожидая какую-то новую гадость, и спешил к ней с крепкой пока еще душой. Причесавшись пятерней, он спросил, куда теперь.
– А куда вам надо? – предложил Славик.
– Ну, я думаю… в кабинет? – уклончиво, но брюзгливо ответил Фомин.
На дневном свету или на открытом воздухе, или – что одно и то же – на типографском хоздворе он не был очень давно. Однако, топоча вслед за Славиком по мерзлой тропке, он не ощущал ни полагающейся рези в глазах, ни весенних головокружений. Что касается воздуха, то воздух вонял дерьмом. А едва миновав тамбур наборного цеха, Лев Николаевич вдруг увидел паровоз и с небывалым, хотя и не совсем понятным отвращением выглядывал его на ходу, из-за Славикова плеча.
Паровоз был ледяной – декоративный или символический паровоз. Он стоял у символической, тоже ледяной, стрелки, прямо посередине двора. На нем и вокруг висели и валялись обрывки мишуры, обгорелые спицы бенгальских огней и зеленые бутылки из-под шампанского, отчего в глазах – без всякой рези – сама собой рисовалась отмелькавшая тут кутерьма голых полудурков с ведрами, то изображающих железнодорожный состав, а то обливающихся разом по системе Иванова, и хоровод типографских машинисток, танцующих танец машинистов и наряженных для этого в большие бумажные кепи, и сосед-инвалид, дающий отмашку для паровозного гудка, и некто Федотов, почему-то в бабьем пальто, выстригающий символическую ленту у символической стрелки. Вся эта кутерьма представлялась столь отчетливо и ненужно, что Фомин с раздражением потряс головой.
На ледяном тендере крупными буквами было выцарапано уже неприличное слово, и, должно быть, тряхнув головой с избытком, Лев Николаевич понял вдруг, что ругательство нацарапал приворотный негр, автоматным штыком – негр стоял у ворот и пил из каски чай. Следующее рассуждение – о том, что некто Федотов, возможно, тоже негр – в принципе не имело права называться мыслью, и даже недодумав его до конца, Фомин скривился так, будто рассуждение тоже воняло дерьмом.
Запретив себе вникать в суть и просто глядеть по сторонам, он встревожился только у кабинета гражданской обороны.