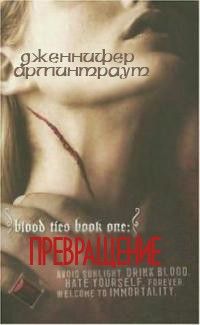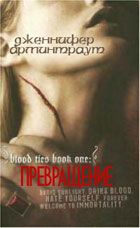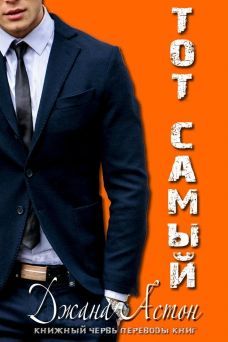Нил Шустерман - Громила
Я направилась к умывальнику. Кажется, всё в порядке. Кроме одной мелочи.
Раны у меня на ладони больше не было.
Нет, она не зажила. Она просто исчезла, как будто её там не бывало никогда. Я мыла и мыла руки, уверенная, что порез, конечно же, окажется на прежнем месте, стоит мне только смыть пену. Куда там. Испарился бесследно.
Неясная мысль билась где-то на краю моего сознания. Догадка одновременно ужасающая и чудесная. Я стояла на грани чего-то таинственного, неизведанного. Да нет, уже не стояла — я уже переступила эту грань.
Я обернулась к Брю и встретила взгляд его поразительных глаз.
— Ни о какой шкафчик ты не резался, — полувопросительно сказала я.
Он помотал головой. Я присела рядом. То, что случилось, не укладывалось в голове, и я никак не могла этому поверить.
— Дай взглянуть.
Он приподнял тампон: рана чуть подсохла и больше не кровоточила. Теперь я могла рассмотреть её как следует. Это была моя рана. Тот же размер, на том же месте. Только теперь она расположилась на его ладони.
— Теперь ты понимаешь? — тихо спросил он.
Но как же вообще можно понять такое? Ответа не было, был вопрос, да к тому же я понятия не имела, как его сформулировать. Поэтому я только пролепетала:
— Но как?..
— Не знаю, — отозвался он. — Просто это происходит — и всё.
— Всегда? Со всеми?
— Нет. Не со всеми. — Из раны снова показалась кровь, и он опять прижал тампон. — Но если человек мне по-настоящему дорог…
Он мог не продолжать — всё сказали его глаза. Вот почему он убежал, вот почему солгал. Все думают, что Брюстер Ролинс — это тёмная неизвестность, чёрная дыра, от которой лучше держаться подальше. Ну, может, так оно и есть. Но о чём люди не догадываются — так это о том, что чёрные дыры излучают неимоверное количество света. Вот только при такой колоссальной гравитации свет не может вырваться на свободу, в космос.
Если Брю обладает свойством забирать себе раны, порезы и кровоподтёки всех тех, кого он любит, неудивительно, что он чурается людей. Как я могла теперь винить его за то, что он вчера скрылся? Ведь он всего лишь пытался убежать от собственной гравитации.
Больше во мне не осталось ни гнева, ни досады. Головоломка, похоже, начала складываться. Замкнутое выражение на лице Брю не поддавалось истолкованию; что творится у него в душе было тоже трудно угадать; зато в моих собственных чувствах можно было не сомневаться. Их половодье затопило ту пустоту, которую оставил после себя ушедший гнев. И так же неожиданно для себя самой, как с давешней пощёчиной, я наклонилась и поцеловала его. От двери доносились протесты медсестры, но мне казалось, что она где-то далеко-далеко, за сотни миль отсюда. Я попала в гравитационную ловушку и не могла из неё вырваться.
— Я люблю тебя, Брю.
— Нет, не любишь.
— Заткнись и бери, что дают.
Он улыбнулся.
— Ладно.
Ему ни к чему было говорить, что он чувствует то же самое — я и так это знала. Доказательство — здесь, на его ладони.
БРЮСТЕР
24) Зловредное
Я видел своих одноклассников с их слабыми сердцами, изуродованными во имя соответствия стандарту, истерзанными и онемевшими; они зализывали раны, полученные при распределении ролей в стае, надеясь вылизать себе дорогу в популярность,
Эти пластилиновые фигурки, пропущенные через пресс захудалых предместий, отлитые по одному образцу и носящие в своей груди кусок ледяной кометы,
Которые, морща хирургически выправленные носы, смотрят сверху вниз на меня — парня, которому, по всеобщему мнению, предстоит умереть от инъекции яда за то единственное преступление, что он не желает пустить в свою душу их грязный, отвратительный холод,
И всё же из этого ледяного пространства вышла Бронте, не поддавшаяся морозу, излучающая тепло, что ритмично пульсирует в её венах и отзывается теперь в моих, как порез на её ладони, который стал теперь моим — полученный случайно, он обратился красноречивым триумфом,
Теперь я дважды проверяю хлипкий замок на двери нашей ванной, не дающей никакого убежища, особенно от дяди Хойта, которому в его параноидальных припадках хочется знать всё, абсолютно всё, что творится под его изъеденной термитами дырявой крышей,
Где я осторожно снимаю повязку и обнажаю плоть, красно-коричневую, больную, поражённую, надеясь перебинтовать руку до того, как дядя узнает о ране, которая неизвестно как появилась у Бронте — в своём любовном ослеплении я позабыл расспросить её об этом,
И которая заживёт без магии, без волшебства, обычным путём — за неделю, за две или за три — так же, как и ободранные костяшки пальцев брата Бронте, теперь тоже мои; как и все те синяки, переломы, ссадины и шрамы, полученные мной в битве, которую я веду всю свою жизнь,
Как эта свежая рана, которую не скроешь, потому что мой дядя распахивает зловредную дверь ванной и враз охватывает взглядом новую красную полосу, рассекающую мою ладонь, и он знает по моим бегающим глазам, что я что-то скрываю, и это даёт ему право обращаться со мной как с заложником своей воли.
«Новый порез. Сегодня, э?»
«Да».
«Ты взял его у Коди?»
«Нет».
«Этот пацан способен запросто отчекрыжить себе башку безопасными ножницами».
«Я взял его не у Коди; это случилось в школе».
Дядя знает, что я могу забирать себе чужую боль, и это знание сводит его с ума, и он делает всё, чтобы оградить, защитить — но себя, не меня.
Моя рана кричит, и я затыкаю ей рот белым марлевым квадратом; но в смятении давлю чересчур сильно и вздрагиваю — почти незаметно, но дядя смотрит на меня, ловя жгучим взглядом каждое моё движение, и замечает всё.
«Болит?»
«Нет».
«Врёшь!»
«Не болит».
«Что-то не похоже!»
«Она заживёт».
«Ты собираешься рассказать мне, как ты её заработал?»
Он, никому и ничему не верящий, никого и ничего не терпящий, смотрит мне прямо в глаза, которые раньше лишь предавали меня, но со временем научились скрывать свои тайны, кодировать их с помощью шифра — его мой недалёкий дядя не может раскусить.
«Это не то, что вы думаете. Какая-то девчонка в коридоре…»
«„Какая-то девчонка“»?
«Наверно, у неё было что-то острое в рюкзаке… Ну, я не знаю!..»
«И ты думаешь, я этому поверю?»
«Я думаю, что вам пора отлить и оставить меня в покое!»
Покидая ванную, я вижу, как дядино лицо кривится, предупреждая, что если я буду несдержан на язык, наказание моё будет жестоким и мучительным, но не сегодня, сегодня ему лень, и он закрывает дверь и справляет нужду, а я ухожу с кружащейся от облегчения головой — в комнату, которую делю с братом,
Где Коди играет пластмассовыми солдатиками, а он сам — генерал, командующий армией; он бросает взгляд на мою забинтованную руку, но не задаёт вопросов; умненький брат знает, что я не скажу, потому что восьмилетки не умеют хранить секреты, они трубят о них направо и налево, а поскольку язык Коди предаёт его ещё чаще, чем меня мои глаза — он не спрашивает, понимая, что не сможет выдать дяде тайны, которую не знает,
И поэтому рана может чувствовать себя спокойно, когда я ложусь на свою койку; рана, которая, будто кровная клятва, чья сладкая боль служит постоянным напоминанием о нашей с Бронте тайне, впервые видится мне как чудо, а не как проклятие,
Потому что стоять между Коди и его болью — это моя обязанность, стоять между моим дядей и его болью — это моя плата; но боль, полученная от Бронте — это моё счастье.
25) Эпическое
В ветреный день в парке, когда рваные облака расчерчивают взбаламученное небо резкими ван-гоговскими штрихами, когда мы с Бронте валяемся в траве, читая Гомера, готовясь к циклопическому экзамену по литературе — я не поддамся на расспросы,
И когда Коди прыгает с дерева, не зная о том, какой спазм схватывает мои гудящие икры, а потом опять лезет на дерево — напропалую, не задумываясь о последствиях, ведь его навыки выживания обусловлены безболезненностью его существования — я не поддамся на расспросы,
И когда Бронте кладёт голову мне на колени, и я читаю вслух «Одиссею» и чувствую, как её желание узнать всё становится тем сильней, чем дольше я избегаю разговоров об этом, когда она замечает, что я декламирую поэму наизусть, и решается задать первый вопрос, который прорвёт плотину, но так же, как Одиссей не поддаётся на призывы сирен — я не поддамся на расспросы.