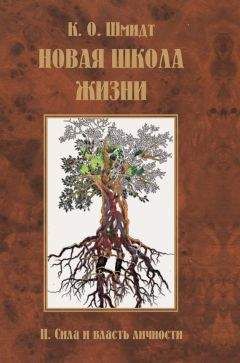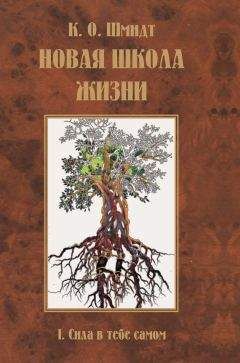Жюльен Грак - Сумрачный красавец
— Что вы хотите этим сказать?
— Что человек может убить себя сам. Если нам дозволено думать о смерти как о подвиге, как о победе, на которую мы имеем неотъемлемое право, то можно пренебречь правилами хорошего тона, которые мы в иных случаях обязаны соблюдать. К чему стесняться?
— Так вы что, решили "свести счеты с жизнью"?
Несмотря на кривляние Ирэн, разговор принял такой неожиданный и ненужный оборот, что мне стало не по себе. Мне показалось (быть может, меня ввел в заблуждение лунный свет, каплями ртути переливавшийся между черными ветками), что Кристель, слушавшая молча, не отводившая взгляда, вдруг резко побледнела. Аллан, раскованный, странно улыбающийся, напоминал игрока в покер, который медлит раскрыть карты.
— Так или иначе, мадам, я не настолько бестактен, чтобы разглашать это в обществе.
Становилось прохладно. Мы спустились обратно, туда, где росли могучие деревья. Я вел Кристель под руку и чувствовал, как дрожит ее рука: от холода или от волнения? Снизу нас звали приветливые голоса, прерываемые гудением клаксона: Анри и Жак, стоя у машин с включенными фарами, уже заждались и хлопали друг друга по плечам, чтобы согреться.
29 июля
Сегодня утром, проснувшись, я почувствовал в самом сердце лета — как в сердцевине яблока угадывается червяк, от которого оно погибнет, — незримое присутствие осени. В этот день, погожий, еще жаркий, озаренный чудесным мягким светом (но чуть приглушенно, словно бы издалека: тонкое очарование лица, тронутого увяданием), подул свежий ветер, ровный, упругий, целительный, — воздух сразу стал чутким, ясным, текучим, его как будто можно пить, вбирать в себя: в груди — ощущение космической широты, оно переполняет, опьяняет, кажется, что вдыхаешь чистую красоту, оно приподнимает тебя над землей, как античную Победу. Долгие дни, будто бы предвещающие мир и покой, скользящие от ночи к ночи и убаюкивающие, как медлительные качели, когда лицо снова и снова обращается к небу, слишком меланхоличному, слишком нежному, — дни, уносящиеся, как пальмовые листья с атолла, тающие, как снег, без ропота увлекаемые землей в ее стремлении к прохладе — дни предчувствий, овеваемые крылами судьбы, дни таинственных прощаний, неясных пророчеств, божественной и нежной беспечности, золотое кружево гибели, боль и блаженство, безумная улыбка сладостной неизвестности, без берегов, до оцепенения, до забытья. Ах! Только море и песок — эта божественная прозрачность дня, эта бесконечная песня, сияющая дымка, которая пронзает сердце зовом потустороннего — и, как жертва преходящей красоте дня на этом затерянном берегу, как провидение поэта, — предвестие зимней мглы среди этой райской истомы, туман, поднимающийся над кучами водорослей.
И все же я не могу спокойно наслаждаться этой переворачивающей душу красотой. Я не в ладу с самим собой, я весь — сплошной диссонанс. Вчера, в жаркие послеполуденные часы, я бродил, как неприкаянный, по коридорам отеля, не зная, куда себя девать, чем успокоиться. От давешнего пикника у меня осталось умиротворяющее впечатление, мягкое, будто лунный свет, и даже поэтичное. Я слушал, как два гармоничных голоса тревожат ночь, — это было похоже на детский сон, и я упивался чувством свободы. Но мне не дает покоя одна загадка, — этюд, к которому я безуспешно подбираю решение. Здесь что-то затевается. Во всех этих, на первый взгляд совершенно незначительных событиях, какие произошли за последние дни и какие я описал в этом дневнике, меня настораживает вот что: пусть даже в словах и поступках не проявилось ничего определенного, ничего такого, что здравомыслящему человеку показалось бы необычным, — но у всех, и у меня в том числе (по ком судить, как не по себе?), реакция на эти слова и поступки всякий раз была неоправданно острой, преувеличенной, — пустяковые, случайно оброненные замечания сами по себе явно не могли стать ее причиной. Словно бы некий неслышный мотив, подобно музыкальной теме, что незаметно возникает в оркестре, то вторит основной мелодии, то перебивает ее, а то и обогащает, придает ей торжественность или мягкость, добавляет раскатистости, создает подтекст, — некий мотив еще ведет фразы, когда уже смолкли голоса, продолжает движение, когда уже опущены руки, и транспонирует обыденность этих происшествий в более высокий регистр. Но если этот мотив и вправду существует, его знает только Аллан.
Я уверен, что после разговора в Роскере он и Ирэн расстались врагами. Они столкнулись, как два существа разной породы. И можно быть уверенным: их взаимная неприязнь будет только возрастать.
Как все теперь поблекло для меня на этом пляже! Простодушные летние радости, веселое фырканье животного, выпущенного из загона на волю, — мне теперь не до них. Письмо Грегори сыграло со мной скверную шутку. После того, как уехала Долорес, я уже готов был прогнать призраков, которых вызвал сам, приложив для этого немалые усилия. А теперь он облек меня ответственностью, доверил мне важную миссию. Просто невероятно, до чего легко втянуть человека в чужие затеи, в любое, сколь угодно сомнительное, нестоящее дело, если внушить ему, что он призван сыграть в этом деле важную, ключевую роль. Нет, корысть не самая могучая движущая сила в человеке. Инстинкт комедианта — вот что побуждает нас к действию. Задень эту струнку — и она непременно отзовется. Вероятно, каждый человек, сам того не сознавая, мечтает однажды сыграть главную роль. Иногда, за обедом, глядя на Аллана, я нащупываю в кармане письмо Грегори — и испытываю низменное, но сильное удовольствие, какое испытывает полицейский, следящий за мошенником. Я увлекся этой игрой — и вот наблюдаю, подстерегаю, жду событий, почти желаю, чтобы они произошли, как бы при этом ни сложились обстоятельства.
Но один ли я здесь этим занимаюсь? Кто может сказать, на что способен человек, увлекшийся игрой? Надо бы написать трактат о рождении трагедии, совершенно не похожий на книгу Ницше. С глубокой древности даже в продуманно сконструированных, прочно основанных на "логике страстей" трагедиях толчком к развитию действия служил сумасбродный, необъяснимый поступок одного из героев, внезапная прихоть, буйная, как порыв ветра, которую можно оправдать лишь одним: неудержимым желанием бросить себя на чашу весов, любой ценой, во что бы то ни стало блеснуть на подмостках жизни — и ввязаться в игру, не имея на то никаких разумных причин. Не раз, сидя в зрительном зале, я размышлял об этой стороне трагедии: возвышенная одержимость, состояние транса, передающееся, как зараза, священный огонь, охватывающий героев одного за другим: "А! Нет уж, позвольте. И я тоже, и я тоже!" Как на стадионе: если один спортсмен ступил на гаревую дорожку, то всем остальным не терпится оказаться там же.
Но играть можно по-разному. Такие люди, как Аллан, по праву рождения получают во всемирном театре амплуа премьера: принц, он властелин жизни. А мне, по-моему, отведена роль наперсника героя — это в лучшем случае. Почему всякий раз, когда требуется выйти на первый план, я пытаюсь спрятаться в тень? Это желание укрыться за чьей-то спиной, ехать в чьей-то колее, — оно преследует меня всю жизнь. Быть может, я выигрываю от этого: из тени лучше видно, — по крайней мере, мне так кажется. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. И это лишь иллюзия, безобидная реакция на собственную второстепенность. Есть такой компенсаторный механизм, который заставляет маленького человека верить, будто он один — вероятно, потому, что всегда смотрит со стороны — способен по-настоящему все понять, во всем разобраться. Нет такого лакея, который — если у него чуть-чуть ослабеет профессиональное чувство такта, — не принимался бы поучать своего хозяина. Нет такого письмоводителя, который не корпел бы долгими часами над речью министра, надеясь найти в ней ошибки.
Вот оно, единственное преступление, какое нельзя искупить: жизнь загубленная, испорченная, изъеденная ленью, трусостью, расчетливым минимализмом. Каждодневное, систематическое неиспользование всех возможностей, дарованных судьбой. И под конец — медленное угасание, которое оправдываешь, становясь в очень удобную позу скептика. Начало такое: "Я нарочно старался не понравиться, потому что боялся не понравиться на самом деле" (Мориак). А вот продолжение: "Я нарочно старался проиграть, потому что боялся проиграть на самом деле". Конец может быть такой: "Я нарочно старался умереть, чтобы не умереть на самом деле" (коронная фраза для талантливого комика). Ничто, наверное, так не истощает жизнь человека, как эта смесь гордыни и малодушия ("Все равно же все кончится плохо").
В последние дни мы с Анри очень сблизились. Из его полупризнаний я заключил, что моя давняя догадка подтвердилась: между ним и Ирэн наметился разлад. Он не уделяет жене должного внимания; но в ней столько жизни, столько энергии, что она держится как ни в чем не бывало, — у менее темпераментной женщины все уже было бы написано на лице, а здесь душевный надлом даст о себе знать гораздо позже.