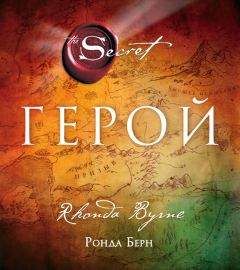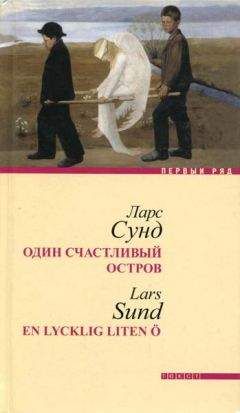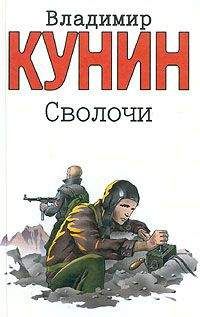Ларс Кристенсен - Цирк Кристенсена
В ее голосе сквозила чуть ли не озадаченность:
— Произошло? Что-то произошло?
Я помотал головой:
— Извините.
— Как тебя зовут?
Я назвал свое имя. Аврора Штерн улыбнулась. Не знаю, что вызвало у нее улыбку. Это ведь было то самое имя, которое я ношу по сей день.
Свечка на камине почти догорела.
Она наклонилась вперед:
— Дай взглянуть на твои руки.
Я поднял руки, она повернула их вверх ладонями, которые походили на два бледных полукруга.
Посмотрела на меня, все с той же улыбкой:
— Руки-то влажные.
— Это от цветов, они были мокрые.
— Ты не нервничаешь?
— Я болел. У меня был жар.
— Ты, видно, не умеешь отвечать однозначно.
Аврора Штерн осторожно держала меня за кончики пальцев. Руки у нее сильные, а все же легкие. Я видел жилки, разбегавшиеся по их тыльной стороне. Закрыл глаза, мне было приятно ее прикосновение. И вскочил:
— Мне пора.
Она отпустила мои пальцы, но не встала. Я взял шариковую ручку и квиток, быстро пошел к выходу. Почти ничего не видя в темноте. Потому что вдруг стало совсем темно. Я на что-то наткнулся, не то на полку, не то на шкаф, а может, на печку. Что-то упало на пол. В конце концов я нашел дверь и снова услышал голос Авроры Штерн:
— В следующий раз, может, расскажу тебе, что произошло.
В следующий раз.
Это вроде как дождешься, только на другой лад. Двойное обещание.
Дождись следующего раза.
С фьорда шел мороз, скользил по улицам серебряными тенями.
Я без варежек катил по Нильс-Юэльс-гате до финсеновской «Флоры». В самом магазине никого не было. Ноябрь же. Колокольчик над дверью не звякал. Кассовый аппарат ржавел. Я остановился посреди магазина, глядя на свои холодные, почти белые пальцы. И вдруг услышал какие-то странные звуки, которым здесь не место. Я знал, что надо бы сразу повернуться и уйти своей дорогой, куда подальше. Однако пошел к подсобке и заглянул туда. Не надо было этого делать. Но я уже сделал. Она — язык не поворачивается в данных обстоятельствах называть ее госпожой Сам Финсен — полулежала на столе среди обрезков стеблей и мокрых газет, опираясь на него грязными руками. Он — опять же язык не поворачивается использовать полное имя — стоял сзади и совершал ритмичные движения. Тела у них были тощие, угловатые, чуть ли не желтые, стонущие подвижные скелеты. Прямо как собаки. И тот, кого я, стало быть, не могу назвать Самим Финсеном, вдруг заметил меня, лицо у него передернулось, скривилось. Ничего ужаснее мне видеть не приходилось. В конце концов я ушел. Выпятился вон. И мне совсем не хотелось сюда возвращаться. Да-да, совершенно не хотелось. По доброй воле я сюда ни за что не приду. Всё, с этим делом покончено. Я проехал к «Музыке и нотам» Бруна, прочистил там глаза. В них было полно грязи. Фендеровский «Стратокастер» красовался в витрине. Но одна струна, басовое ми, была порвана. Это меня встревожило. Кто-то играл на гитаре, причем небрежно? Или ей вредно стоять без дела, в жару и в холод? Может, кленовая древесина треснула и скоро весь гриф лопнет? С другой стороны, может, цену снизят, раз гитара повреждена, и я смогу вычеркнуть некоторое количество дней, сократив срок, когда она станет моей? Но ведь я только что отказался от должности курьера в отвратительной финсеновской «Флоре». Я пришел в замешательство, чуть ли не в ужас. Казалось, все вокруг разлетается вдребезги. Я был в дебете на Бюгдёй-алле. Поехал дальше, свернул за угол на Габелс-гате, где два года назад одна женщина выпрыгнула из окна пятого этажа и вниз головой упала на низкую ограду. В ограде до сих пор видна вмятина. По-моему, ее следовало бы выправить. Но, может, кто-то решил сохранить ее как память. Когда я добрался до дома, во дворе, под сушилкой, где кто-то развесил на веревках или, может, просто забыл последнее в этом году белье, сидел Гундерсен. Вообще-то Гундерсен был изобретатель. Но в жизни ничего не изобрел. Правда, сам он утверждал обратное, в смысле, что другие изобретатели украли его изобретения. Скорее-то всего Гундерсен просто опоздал со своими изобретениями. Опоздал с сырорезкой, с канцелярской скрепкой, с колесом. Сейчас он сидел тихо-спокойно, подобрав под себя ноги, и покачивался взад-вперед. Я взял мусорное ведро и спустился к нему. Гундерсен увидел меня и закрыл глаза.
— Все надо скрывать, — прошептал он. — Это невыносимо.
— Чего? — спросил я.
— Чего? Бутылки. Жажду. Стыд. Лицо. Рот. Мои руки. Особенно руки. Дальше так невозможно.
— Угу, — буркнул я, просто чтобы не молчать.
Гундерсен вытянул обе руки перед собой, они дрожали, как два тоненьких зеркальца.
— Я должен прятаться, когда пьян. Должен прятаться, когда мучаюсь похмельем. Должен прятаться, когда трезв.
— Когда трезв? Это почему?
— Потому что скоро опять напьюсь.
— Вон оно что, — сказал я.
Не вполне ясно, был ли Гундерсен в данный момент пьян или трезв. Возможно, пребывал где-то посередке. И, похоже, чувствовал себя там не особенно хорошо, скорей уж наоборот.
Все вздыхал и вздыхал:
— Устаю я. Чертовски устаю.
Белье на веревках замерзло почти что в камень — клетчатая рубаха, голубой носок, белая блестящая простыня, что наискось торчала из прищепок, будто земля перевернулась.
— Почему ты вообще так много пьешь? — спросил я.
— Чтобы время шло быстрее.
— И оно идет быстрее, когда ты пьешь?
— Вот этого-то я и не пойму, видишь ли. Боюсь смерти, а пью, чтоб время шло быстрее. Ты можешь это понять?
— Ты прямо как священник говоришь, — сказал я.
Гундерсен ненадолго поднял голову, казалось, он размышлял, хотя заметить это было трудновато.
— Ты знаешь, кто такой Бертольт Брехт? — спросил он.
— Нет.
— Стыдно не знать.
— А ты знаешь, кто такие «Битлз»? — спросил я.
— «Битлз»? Случайно не та шайка, что бесчинствует на Бюгдёй?
Я рассмеялся.
— «Битлз» сочинили «Do you want to know a secret». Самую лучшую песню на свете.
— А Бертольт Брехт сочинил «Замену колеса». Самое страшное стихотворение на свете.
Гундерсен заливался слезами, читая вслух темные страницы воспоминаний. Этому дню явно не было конца-краю. Мне очень-очень хотелось убраться со двора. Никогда — ни раньше, ни позднее — я не любил смотреть, как плачут взрослые люди, в особенности мужчины, позволю себе подчеркнуть. Потому и приведу здесь стихотворение Бертольта Брехта, о котором толковал Гундерсен, «Замену колеса», по сути своей оно чем-то сродни обстфеллеровскому «Гляжу», и в этом смысле я как бы узнавал себя в нетерпеливом человеке на обочине дороги, воочию видел, как он курит сигарету, что одет он в серый костюм и волосы у него гладко зачесаны назад, а пыль от проезжающих по шоссе автомобилей садится на черные ботинки.
Я сижу на обочине шоссе.
Шофер заменяет колесо.
Мне не по душе там, где я был.
Мне не по душе там, где я буду.
Почему я смотрю на замену колеса с нетерпением?[4]
Гундерсен утер глаза большущим носовым платком и посмотрел на меня:
— Разве не страшно?
— «Битлз» мне все-таки больше нравятся, — сказал я.
— Ты хоть понимаешь, о чем тут на самом деле идет речь? Я тебе скажу. Что никогда нельзя полагаться на пьяницу.
— Раз ты так говоришь… — только и сказал я.
Гундерен долго и обстоятельно качал головой, потом попробовал встать. Пока что не получалось.
— Но теперь все будет по-другому! — крикнул он.
— Правда?
— Я покажусь всем — и Богу, и людям! Мне больше нечего скрывать! Ты мой свидетель, парень!
— Если тебе больше нечего скрывать, почему ты сидишь тут, а не на тротуаре на улице?
Гундерсен опять уставился в землю.
— Сперва посижу тут посохну, — сказал он. — Запах свежевыстиранного белья хорошо протрезвляет.
Я бы с удовольствием сказал что-нибудь в этой связи, например, что тогда, по всей вероятности, Гундерсену придется сидеть тут до марта следующего года, когда промерзшее белье на веревке оттает. Но в этот миг с черной лестницы донесся жуткий грохот. Это был капитан Том Кёрлинг. Одетый в свой заношенный, когда-то безукоризненный двубортный блейзер, теннисные туфли и галстук-бабочку, похожий на фальшивые усы, которые съехали на мятый воротничок да там и застряли. Иными словами, Том Кёрлинг был точь-в-точь такой, каким мы привыкли его видеть. Ошарашило же нас то, что он волок два полированных камня и зажимал под мышкой облезлую щетку, ведь, если учесть, что одни лишь камни весили как минимум по восемнадцать кило каждый, а Тому Кёрлингу сровнялось девяносто, можно себе представить, какой грохот он производил.
Том Кёрлинг положил камни, закурил сигарету и ткнул щеткой в нашу сторону.
— Что вы, собственно, знаете о кёрлинге?
Гундерсен съежился под замерзшей простыней.