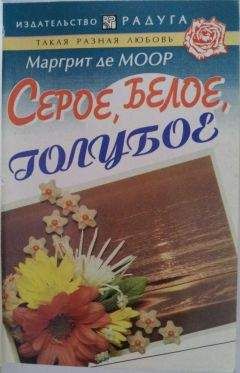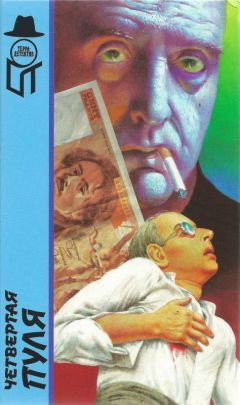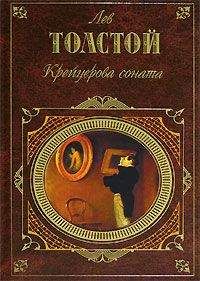Маргрит де Моор - Крейцерова соната. Повесть о любви.
— Как это мило с твоей стороны! — Она обвила его руками сзади за шею, свитерок на ней был из мягкой шерсти. — Какая забота! Искушение так велико!
Но необходимости в этом не было, и шофер вместе со своей женой с Антильских островов поселился в пристройке. Эта его жена взялась следить за огородом и два раза в неделю хозяйничала у них на кухне — до того вкусно готовила рататуй, мокси-мети и сушеную треску с длинными зелеными стручками бобов, что вскоре эти блюда стали их любимой пищей.
— Не окажете ли вы мне любезность? — на полуслове прервал себя Ван Влоотен.
— Скажите, какую?
— Закажите бутылочку минеральной воды.
— Отличная мысль. Здесь жарко, как в преисподней.
— Да нет, ничего, терпимо.
Он все еще не снял синий плащ. Мы выпили воды и замолчали. Потом как-то незаметно мы вернулись к теме нашего разговора.
— Вся беда была в том, что я начал утрачивать ее образ, ее портрет.
— Как это?
— В этом в принципе ничего удивительного нет, — сказал он, не обращая внимания на мой вопрос. — Слепые, которые когда-то были зрячими, забывают облик тех людей, с которыми они постоянно живут. А лица тех, с кем им потом уже не приходилось больше встречаться, напротив, вспоминают очень часто. Лица былых знакомых, словно фотоснимки, хранятся в архивах нашей памяти.
— Я понимаю. Они не меняются и поэтому…
— Да-да, правильно, — перебил меня он. — Вот и Сюзанна, которая ежедневно сидела со мной за столом, ездила в машине, спала в одной постели, её, Сюзаннин портрет, становился все более смазанным и грозил вот-вот исчезнуть.
Я горестно схватился за свой стакан. Мне пришла в голову печальная мысль о том, что, что бы мы в жизни ни делали, все в конечном счете исчезает и превращается в дым и пустоту. Я напомнил Ван Влоотену наш разговор десятилетней давности в самолете по пути в Бордо, когда он утверждал, что Бог, должно быть, любит музыку, но не любит зрительный образ, решительно отрицающий время после того, как жадно вберет его в себя.
Он слушал меня с ледяным лицом. Ничего такого он, конечно же, не помнил.
— И вот теперь, — сердито продолжал я, — ответный ход. Судите сами! Река времени постепенно размывает картину!
Ван Влоотен не ответил. Но через некоторое время он опять повернулся ко мне.
— Рассказать вам кое-что смешное? Порой, когда я пытался ее себе представить в те вечера, когда ее не было дома, вместо нее перед глазами у меня возникала одна картина, которую я когда-то видел в Берлине.
И он описал мне портрет девушки: белое, как мел, лицо, сине-фиолетовая шляпка на голове, она сидит в кресле в торжественной позе богини подземного мира, Персефоны, ее пальцы крепко впились в подлокотники.
— Так бывает, — безразлично заметил я.
Ему хотелось, чтобы она прекратила выступать. Чтобы родила ему еще нескольких детей. Он спрашивал ее, скоро ли она одумается и прекратит свою связь с альтистом, и дал буйно разрастись первым росткам безумия, с которым он в ту пору при желании еще сумел бы совладать. Однажды, когда поднялся сильный ветер, она умудрилась попасть в западню в сарайчике возле гаража. В тот вечер она должна была играть. Бог ее знает, что ей вдруг там понадобилось, да, впрочем, это и неважно, но пока она была внутри, порыв ветра захлопнул дверь с такой силой, что разболтавшаяся ручка выпала, причем с внешней стороны.
В ту минуту, когда ее голос, перекрывший вой ветра, достиг его слуха, он за пишущей машинкой в своем кабинете понял сразу две вещи: она сейчас в сарайчике, размером два на два с окошечком под потолком, и с ней случилась неприятность, которая, что называется, опасности не представляет. Ладно, он нащупал ногами под столом ботинки и пошел к выходу на противоположной стороне дома, при этом невольно вспомнил о том, что няни с сынишкой сейчас дома нет. Он остановился у открытой двери, на расстоянии в двенадцать шагов от сарайчика — завывающий ветер уносил ее крик в сторону, противоположную пристройке. Есть мысли, которые прошивают наш мозг, подобно раскаленной проволоке. Сегодня у нее концерт.
Замечательно! Только ради того, чтобы сполна насладиться вольным полетом своей фантазии, он вначале не предпринял решительно ничего. Ему нравилось представлять себе, как сегодня вечером альтист выйдет на сцену, извинится и распустит слушателей по домам. “Пускай себе покричит”, — с этими мыслями он поплелся назад в дом, поднялся вверх по лестнице, никого не было, в воздухе витал аромат фрезий; эта пустота была непохожа на обычную, когда ее просто не было дома! Ванная комната находилась в глубине здания, в нее не проникал ни единый звук с улицы. Он открыл оба крана, разложил в сторонке чистые носки, нижнее белье и новую сорочку и разделся. Безмятежно спокойный, он услышал, как часы пробили полшестого, а затем шесть — в это время он сидел и подрезал себе ногти на ногах — в эту минуту влетела она.
— Что со мной сейчас было!
— И что же?
От нее он узнал, что она провела взаперти целую вечность, ужасно нервничала из-за срывающегося концерта, и наконец ее освободила из заточения жена шофера.
В тот вечер примерно в полдевятого у него без видимых причин начали дрожать руки. “Сюзанна сейчас наверняка играет Моцарта — KV428 — очень вероятно, что она со своим квартетом исполняет в эту минуту andante con moto”. И Ван Влоотен стал тихо, но отчетливо проклинать стены своего дома, эти застывшие немые кулисы его отшельнической жизни, в то время когда она где-то там, на глазах у сотен зрителей, проживала свою сотую, двухсотую, пятисотую жизнь. Везде соглядатаи, везде глаза, шпионящие через замочную скважину! Вскоре вслед за тем наступил период, когда каждый раз, когда он ненадолго отлучался по делам, мебель в доме чуточку сдвигалась.
— Вы бы это потерпели? — спросил меня он.
В ответ я рассказал ему случай, о котором слышал у себя в Принстоне, об одном мужчине, который потребовал и получил развод на основании того, что его жена без устали переставляла в доме всю мебель, включая обстановку в жилом прицепе.
— Вот видите! — воскликнул он. — А он был зрячий!
Она все отрицала. Высокомерно заявила, что гигантский письменный стол времен Вильгельма III и королевы Марии на этом месте всегда и стоял, да и диванчик тоже…
— И если ты немедленно не прекратишь!..
Она вырвалась из его рук. Уже несколько дней подряд они ссорились из-за того, что она наотрез отказывалась признаться в том, в чем он уже не первый год был совершенно уверен. Альтиста в своих спорах, кстати сказать, ни один из них ни разу не упомянул. Эмиль Бронкхорст — это было просто имя коллеги-музыканта из Шульхоф-квартета, к которому критик, наравне с другими, приходил в артистическую пожать руку после первого исполнения новой программы.
— Как тебе понравилось, Мариус? — спросил его как-то раз альтист после концерта, состоявшего из произведений Шуберта и Шёнберга.
Они стали говорить о том, как удачно сочетание в одной программе произведений этих двух композиторов.
— Оба они были провокаторами, — заметил Ван Влоотен.
— Действительно, — согласился его собеседник. — И тот и другой сумеет, если понадобится, обойтись без исторической поддержки.
Их голоса сходились на одной и той же высоте, ведь и альтист тоже был рослым мужчиной крепкого сложения.
— Ну что, пошли? — сказала через некоторое время Сюзанна, и он последовал за ней к боковой двери, из которой был выход на окутанную ночным сумраком парковочную площадку.
Он еще не привык к их новой машине, поэтому она слегка приложила его руку к открытой дверце, чтобы он смог найти свое сиденье, и только потом села сама. Они выехали из города и свернули в сторону побережья.
— Может быть, вы думаете, — спросил меня Ван Влоотен, помолчав, — что слепой не такой как все, что он не берет себе в помощники дьявола? Язва, экзема, алкоголизм, разрушительные психические расстройства…
Он поднес руки к вискам, словно хотел сказать: “Но только почему, черт побери, в моем случае именно это?”
— Моя ревность, — медленно проговорил он — я впервые услышал из его уст это слово, — моя ревность разворошила нашу любовь, словно кокон, опутанную тысячью и одной нитью, и выпустила на волю целый рой жужжащих слепней.
Они въехали в деревню, миновали небольшую площадь и покатили дальше по дороге к морю. Сюзанна была молчалива, сосредоточенна, но на опасном крутом склоне так было даже лучше. Но он вдруг раскричался, заявил, что больше так не может, что она с ее любовником зашла слишком далеко. Он яростно настаивал, чтобы она рассказала, хорош ли в постели тот господин, с которым она проводит ночи на гостиничных койках, и удовлетворяет ли он ее в особом, сонном варианте любовного поединка, которому она так любила предаваться по утрам!
Не обращая внимания на его грубость, она подъехала к гаражу, двери автоматически раскрылись, и внутри загорелся свет.