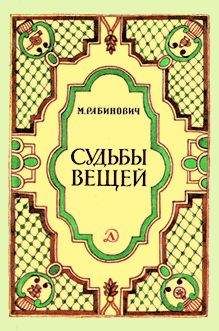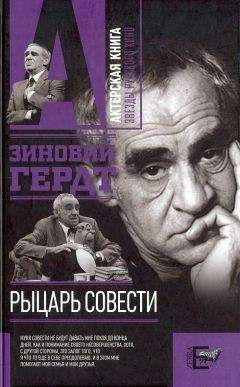Пьеретт Флетьо - История картины
Искать в этих дебрях какой-либо связи, последовательности было занятием изнурительным. Я с удивлением замечала, что моя жизнь на редкость однородна, если не считать шероховатостей, связанных с натянутыми отношениями между двумя общественными слоями, к которым мы были причастны, но эта натянутость, в конечном счете возникающая на основе единой культуры, к разрывам не приводила. Я знала систему условных знаков, открывающую доступ как к одной социальной прослойке, так и к другой. С ним же никаких ориентиров более не существовало, я попадала в мир разорванный и дикий, при столкновении с которым все во мне ощетинивалось.
Мне хотелось пойти на этот вечер, чтобы доказать себе, что я не боюсь; мой муж тогда убедится, что я ничего от него не скрываю, а друзьям я дам понять, что наша дружба с художником по-прежнему безоблачна; наконец, я не могла допустить, чтобы любое изменение в его жизни — новая мастерская, гости, которые там соберутся, его последние работы — оставалось мне совершенно чуждо: я обязана, представлялось мне, быть в курсе всего из-за картины. Чтобы полнее оценить ее, я не должна ею ограничиваться, я хотела, чтобы мое восхищение не было невежественным и косным.
Я думала обо всем этом на забитых транспортными пробками улицах в чреватую грозой послеполуденную пору. Автобус еле полз или вовсе стоял на месте, а у меня сердце колотилось от нетерпения, ведь, едва добравшись до цели, мне предстояло приступить к демаршам, о которых и помыслить противно. Но я даже приступить не смогла — события меня опередили. Управляющий, почуяв, что будет буря, принял превентивные меры: позвонил в контору администратора дома, пожаловался, что его вынудили сложить в подвале мебель, хотя она заняла там место, которое часто бывает ему нужно, да и сами вещи страдали от подобного нарушения правил их содержания, все это его измучило до предела, он, поставленный в такие условия, больше не мог исполнять свои трудоемкие обязанности. Его немыслимый акцент и бесконечные восклицания довели сотрудников конторы до крайнего раздражения, и они не нашли ничего лучше, как обратить свой гнев против нас. Они всполошили официальных квартиросъемщиков — владельцев мебели, взявших на себя ответственность за наше благонравное поведение на занимаемой зданием территории, — и объявили им, что съемщик, помимо всего прочего, не имел права сдавать апартаменты от своего имени.
К исходу дня уже стало ясно, что нам больше не позволят жить в этом доме. Может статься, контора стремилась лишь выжать из этой истории немного больше денег, но я знала: муж на шантаж не поддается. С другой стороны, я в своем взвинченном состоянии разругалась по телефону с домовладельцами, которых между тем всегда находила весьма вежливыми и приятными. Нам тоже жить надо, напрямик выкрикнула я им, мы не можем до бесконечности оберегать их дом, будто неприкосновенную музейную коллекцию, так или иначе, мебель была безобразна, и мы уже с лихвой оплатили ее стоимость за те восемь лет, что снимали квартиру. После таких слов нам ничего больше не оставалось, как паковать вещички.
Разумеется, о том, чтобы пойти на вечер к художнику, теперь и речи быть не могло. Я чувствовала себя вконец разбитой. И никак не могла придумать, чем оправдаться перед ним, однако ни на секунду не допускала возможности сказать ему правду, чересчур унизительную для меня, к тому же в любом случае требующую слишком долгих объяснений. Выслушивать такое он, конечно, не пожелал бы — терпения не хватит.
Эта история стала катастрофой для всей семьи. С одной стороны, мужу приходилось отказаться от такого преимущества, как близость места работы, куда он до сих пор всегда мог добраться пешком. С другой — мы теряли квартиру, плата за которую, конечно, тоже была для нас высоковата, однако дешевле всего того, что мы теперь сможем найти.
Я решила принять все эти потрясения легко. Заверила мужа, что в другом месте нам будет лучше и это сулит забавные перемены, которые пойдут нам на пользу. Разве он сам не говорил, что этот квартал небезопасен для детей? Про себя же я думала, что такой поворот событий в конечном счете удовлетворит мои самые тайные желания: я более чем счастлива покинуть это место, оно так неудобно расположено и такое скучное, все тут отмечено печатью посредственности. Нам, может быть, удастся, думала я, найти квартиру в «настоящем» доме с красивыми белыми стенами и бьющими фонтанами, с охранником в униформе у входа и видом на все небоскребы города.
* * *Все квартиры, что мы осматривали в западных кварталах, конечно просторные, но староватые, меня не удовлетворяли. Я отвергала их до тех пор, пока мы не перенесли свои поиски в восточный сектор, где обитало большинство моих старых друзей. Мне хотелось только одного: иметь прекрасное жилище, апартаменты под стать художественной галерее, и чтобы на сей раз я могла ее обставить по своему вкусу в соответствии с новыми понятиями о красоте, которыми меня обогатило обладание картиной. Я была не в состоянии говорить ни о чем другом. Когда мне казалось, что муж склоняется к решению снять жилье вроде того, что было у нас прежде, я напрочь теряла интерес ко всему. Он в конце концов внял моим доводам. И вскоре мы въехали в превосходный новый дом в восточной части города, дом, давно восхищавший меня гордым силуэтом, смягчаемым изящными балконами. У нас тоже имелся балкон, и, хотя комнат здесь было меньше, чем там, где мы жили прежде, зато они выглядели несравненно презентабельнее. Муж утратил возможность работать в отдельном кабинете, детям пришлось довольствоваться одной комнатой на двоих, и все же мне казалось, что мы достигли многого.
Однако мое торжество продлилось недолго — вскоре пришлось столкнуться с новыми проблемами. Теперь нам требовалась меблировка, и я хотела, чтобы она гармонировала с домом и с моей картиной. Мой вкус в этой области развивался с неслыханной быстротой. Неоценимую помощь мне оказывали дамы из числа былых приятельниц, большинство своих покупок я делала вместе с той или другой из них. Я не могла понять, почему когда-то презирала их разговоры. Теперь я находила в них много интересного и весьма ценила их советы.
Вскоре мы потратили все деньги, скопленные для детей, как на их каникулы, так и на случай болезни. Мысль об этом мне несколько досаждала, но мы же все-таки не могли жить без мебели!
Итак, я купила на распродаже с аукциона очень красивый стол в стиле чиппендейл. Покупка вышла дорогая, но он был нам необходим, а прочее могло и подождать. Однако же полнейший абсурд пользоваться и дальше разрозненными столовыми приборами, которыми мы довольствовались до сих пор. Дурацкие, противные, они напоминали насекомых на серых нечистых лапках, они оскорбляли и стол, и новые апартаменты, и картину. И тут я приглядела на витрине серебряные столовые приборы, чья красота меня буквально ошеломила. Уж они-то, по крайней мере, не были простыми щербатыми кусками металла. Один вид узких корон, вытесненных на каждой тарелке, навевал грезы, а снежные переливы серебра напоминали о суровости ледяных фьордов и темной роскоши дворцовых страстей. Я обзавелась кредитной картой и, орудуя ею, как новенькой волшебной палочкой, приобрела всю серию. Но вскоре я натолкнулась на новое препятствие. Теперь стало немыслимо использовать пластмассовые тарелки, которых нам хватало в прежней жалкой квартире. Пришлось снова прибегнуть к помощи своей карты. Я купила старинные оловянные тарелки, которые если и не шли в сравнение с серебряными столовыми приборами, то, по крайней мере, затрагивали ту же область души. Они были призваны на ближайшее время придавать нашим повседневным трапезам сносный вид, но воспользоваться этими новыми приобретениями мы так и не смогли: скрежет ножей по металлу слишком действовал на нервы. Чтобы утихомирить досаду, я купила горшки с громадными зелеными растениями. Я говорила себе, что поставлю их подле моей картины, что ее краски в обрамлении этих почти что деревьев покажутся еще более таинственными, будет так странно угадывать их блеск под сенью слегка колышущихся больших пальм.
Мне очень нравилось показывать полотно гостям, объяснять им его смысл. Я говорила, что у картины, как у человека, есть свои настроения, что она меняется при разном освещении. Я доставала фонарь и вращала его луч перед холстом, чтобы продемонстрировать им все роскошество красок, проявить со всей очевидностью их ускользающую и вместе с тем навязчивую лучезарность; обращала внимание посетителей на мощный рисунок полос, на текучесть цветовых оттенков; указывала на структуру «оконной рамы», которая придает картине небывалую глубину и одновременно распахнутость, делая ее образом внутреннего и внешнего, местом соприкосновения двух бездн, узлом, в который стягиваются непримиримые противоборствующие силы.
К тому же эти показы были единственными моментами, когда картина доставляла мне удовольствие. Меня теперь настолько поглощали заботы о том, как бы создать ей обрамление, достойное ее красоты, что я уже не находила времени на нее смотреть. Когда же мне случалось слишком долго оставаться с нею наедине, я чувствовала смущение, природы которого не понимала. В этой новой обстановке она, несомненно, смотрелась уж очень по-другому, и художник, когда увидел ее здесь, удивился. Он больше не узнавал своего творения. Так он сам, по крайней мере, сказал.