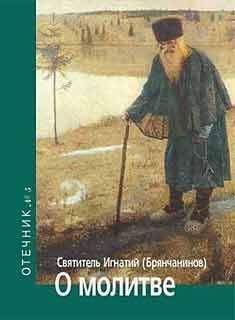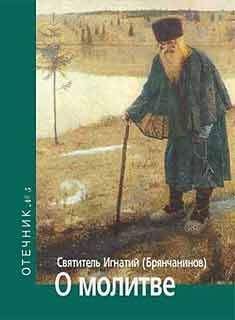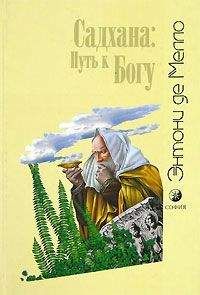Дениел Уоллес - Крупная рыба
— Попытайся еще раз. Я дам тебе шанс, а потом ухожу, так я сделаю и не знаю, приду ли опять. Больше не хочу быть простаком-напарником рыжего клоуна.
И он говорит, мой отец, мой родной отец, который лежит передо мной на смертном одре, хотя и выглядит сегодня неплохо для человека в его состоянии, говорит мне:
— Сын, ты сегодня не в себе, — говорит что твой Граучо Маркс [Самый известный из трех братьев Маркс — американских комиков, чье вдохновенное сумасбродство оставило яркий след в истории мирового кино.], еще и подмигивая на всякий случай, — и это огромное достижение.
Но я отказываюсь принимать его шутку; мой отец — трудный случай. Я встаю, чтобы уйти, но он хватает меня за руку, удерживая с такой силой, какой, я думал, в нем уже не осталось. Я гляжу на него.
— Я знаю, когда придет мой последний час, — говорит он, пристально глядя мне в глаза. — Я это видел. Знаю, когда и как все произойдет, и это будет не сегодня, так что не волнуйся.
Он совершенно серьезен, и я верю ему. Действительно верю. Он это понимает. Тысячи мыслей проносятся в моей голове, но я не могу высказать ни одной. Мы неотрывно глядим в глаза друг другу, и я в полном изумлении. Он это понимает.
— Как ты… каким образом?…
— Я всегда это знал, — мягко говорит он, — всегда обладал такой силой, способностью к видениям. С детских лет. Когда я был мальчишкой, я видел вещие сны. С криком просыпался. В первую ночь отец подошел ко мне и спросил, что случилось, и я рассказал ему. Рассказал, что мне приснилось, будто тетя Стейси умерла. Он меня успокоил, мол, с тетей Стейси все хорошо, и я лег обратно в постель. Но на другой день она умерла. Примерно неделю спустя это повторилось. Новый сон, и я опять с криком проснулся. Он вошел ко мне в комнату и спросил, что случилось. Я сказал, что мне приснилось, будто Грэмпс умер. Он, как в первый раз, сказал — хотя, может, и слегка обеспокоено, — что Грэмпс в полном порядке, и я уснул. И конечно же, на другой день Грэмпс умер. Несколько недель мне ничего не снилось. Но потом опять новый сон. Отец вошел ко мне и спросил, что мне приснилось, и я сказал, что видел, будто умер мой отец. Он, разумеется, уверил меня, что отлично себя чувствует и пусть я не думаю об этом, но я видел, как он испугался, и слышал, как он ходил всю ночь из угла в угол, а на другой день был не в себе, и вид у него был такой, будто он ждет, что что-нибудь упадет ему на голову, и рано утром он отправился в город и долго не возвращался. Когда он наконец появился, то выглядел ужасно, будто весь день ждал, что ему на голову упадет топор.
«Боже правый! — сказал он моей матери, когда увидел ее. — Такого кошмарного дня у меня не было во всю мою жизнь!»
«Ты думаешь, что это у тебя был плохой день? — ответила она ему. — Этим утром молочник замертво свалился у нас на крыльце!»
Я вышел, хлопнув дверью, надеясь, что его хватит инфаркт, и он мгновенно умрет, и все наконец кончится. Я даже заранее начал скорбеть.
— Эй! — услышал я из-за двери его голос. — Где твое чувство юмора? Если и не юмора, то хотя бы сострадания? Вернись! — зовет он меня. — Дай мне шанс, пожалуйста! Я тут умираю!
День когда родился я
В день, когда я родился, Эдвард Блум слушал трансляцию футбольного матча по транзистору, который он засунул в карман рубашки. А еще он толкал перед собой газонокосилку и дымил сигаретой. Лето было дождливым, и трава вымахала высокая, но в тот день солнце жарило моего отца и отцовскую лужайку, живо напоминая старые добрые времена, когда и солнце было жарче, да и все в мире — или жарче, или больше, или лучше, или проще, чем нынче. Плечи у него уже были как красные яблоки, но он не замечал этого, потому что слушал трансляцию самого важного матча в году, матча, в котором команда его колледжа в Оберне сошлась со своим извечным противником из Алабамы, неизменно побеждавшим в этом противостоянии.
Он коротко подумал о моей матери, которая была в доме, просматривала счет за электричество. В доме было холодно, как в холодильнике, но она все равно обливалась потом.
Она сидела на кухонном столе, уставясь в счет, когда почувствовала, как я энергично задвигался, принимая стартовую позицию.
«Скоро, — подумала она, быстро делая глубокий вдох, но не слезла со стола и даже не перестала смотреть на счет. Только мысленно повторяла одно слово: — Скоро».
Мой отец продолжал косить лужайку, и было похоже, что Оберну ничего не светит. Как всегда. Каждый раз происходило одно и то же: ты начинал следить за игрой, веря, что уж в этом году наконец-то придет победа, но она никогда не приходила.
Дело шло к перерыву, а Оберн уже проигрывал десять очков.
В день, когда я родился, мой отец закончил подстригать лужайку перед домом и, вновь исполнившись оптимизма, двинулся на задний двор. Во втором тайме Оберн сразу бросился в атаку и опустил мяч за линией. Теперь они проигрывали только три очка, еще не все было потеряно.
Алабама тут же отыграла потерю, а потом, не мешкая, увеличила отрыв.
Моя мать положила счет за электричество на стол и прижала его обеими руками, словно пытаясь разгладить. Она еще не знала, что неутомимый труд и упорство моего отца, всего лишь через несколько дней будут с лихвой вознаграждены и ей больше никогда не придется беспокоиться о счетах за электричество. Сейчас же мир, все планеты Солнечной системы, казалось, вращаются вокруг этого счета в сорок два доллара и двадцать семь центов. Но было необходимо поддерживать прохладу в доме. Она носила такую тяжесть. Она всегда была худенькая, но сейчас, нося меня в себе, стала огромной, как дом. И ей хотелось прохлады.
Она слышала, как мой отец на улице косит лужайку. Ее глаза расширились: я готов был ринуться вперед. «Уже». Я уже готов был ринуться вперед.
Время шло. Она спокойно собирала вещи для роддома. Оберн владел мячом, но играть оставалось считанные секунды. Только на то, чтобы забить с поля.
В день, когда я родился, мой отец замер, перестав косить лужайку, и слушал голос комментатора, доносившийся из приемника. Он, как статуя, стоял у себя на заднем дворе, наполовину подстриженном, наполовину нет. Он знал, что они проиграют.
В день, когда я родился, мир стал маленьким и полным радости.
Моя мать закричала, мой отец закричал.
В день, когда я родился, они победили.
Каким я виделся ему
Поначалу я не производил впечатления: крохотный и розовый, беспомощный, не умевший
толком говорить. Даже переворачиваться не мог. Когда отец был мальчишкой, ребенком, младенцем, он был больше приспособлен к этому миру, чем я. Времена тогда были другие, и от всех требовалось больше, даже от младенцев. Даже младенцы должны были нести свою часть ноши.
Но мне не пришлось быть младенцем в те трудные времена. Родившись в настоящем роддоме, где моей матери были обеспечены лучшее лечение и любые лекарства, я просто не знал, каково было появляться на свет в прежние времена. Хотя это ничего не меняло: Эдвард любил меня. Действительно любил. Он всегда хотел мальчика, и пожалуйста, вот он я. Он, конечно, ожидал большего. Что я появлюсь, источая неяркий свет, сияние, может быть даже с подобием нимба вокруг головы. Пробуждая в нем мистическое чувство, что вот наконец свершилось. Но ничего такого не было. Был просто младенец, такой, как все младенцы, — разве что, разумеется, я принадлежал ему, и это делало меня особым. Я много кричал и много спал, и это было основное мое занятие; мой репертуар был очень ограниченным, хотя бывали моменты тихой ясности и радости, когда я смотрел на моего отца, лежа у него на коленях, и мои глаза сияли, будто видели бога, кем он, в определенном смысле, и был. Или, во всяком случае, подобным богу, ибо сотворил эту жизнь, посеяв волшебное семя. В такие моменты он мог видеть, какой я шустрый, какой смышленый, мог представить, как далеко я пойду. Возможности безграничные.
Но потом я снова принимался орать, или нужно было менять пеленку, и приходилось передавать меня моей матери, которая успокаивала, и пеленала, и кормила меня, а Эдвард беспомощно смотрел на нас со своего кресла, внезапно чувствуя, как он устал, мучительно устал от крика, бессонных ночей, запаха. Устал от своей усталой жены. Так что порой он скучал по прежней жизни, по свободе, когда хватало времени просто посидеть, подумать, — но разве этим он отличался от любого другого мужчины? С женщинами все иначе, они созданы, чтобы растить детей, на то им даны заботливость и внимательность. Мужчины должны покидать дом и отправляться работать, так повелось от веку, и так оно идет от времен охотников-собирателей до наших дней. Так существо мужчин было расколото; им приходилось раздваиваться: одна их половина была дома, другая на работе, тогда как назначение матери — быть всегда цельной.
В те первые несколько недель он относился к своим обязанностям отца очень ответственно. Все
обратили внимание: Эдвард изменился. Он стал задумчивей, основательней, философичней. Пока мать занималась повседневными делами, он придал своим мечтаниям о моем будущем вид конкретной задачи. Он составил список добродетелей, которыми сам обладал и хотел передать мне: