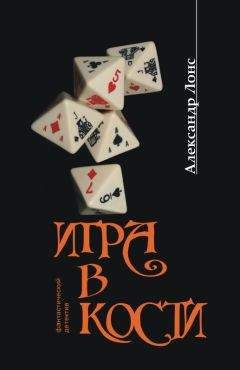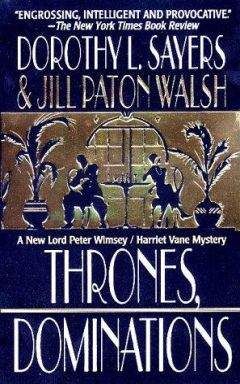Курт Воннегут - Порожденье тьмы ночной
По словам сотрудников Института, Хайнц стал признанным специалистом по смерти Гитлера, поскольку ему случилось забрести, в бункер, где догорал уже обуглившийся, но еще узнаваемый труп фюрера.
Эй, Хайнц, привет тебе, если ты это читаешь.
Я был глубоко к тебе привязан — насколько я вообще способен быть привязан к кому-либо.
Поцелуй там за меня камень в Бларни[7].
Что ты искал в бункере Гитлера? Свой мотоцикл и своего лучшего друга?
22: СОДЕРЖИМОЕ СТАРОГО СУНДУКА…
— Вот что, — обратился я к моей Хельге тогда в Гринич-Вилидж, рассказав ей то немногое, что знал о ее матери, отце и сестре, — на этом чердаке любовного гнездышка даже на одну ночь не свить. Возьмем такси, поедем куда-нибудь в гостиницу. А завтра — выкинем все это барахло и купим новехонькую мебель. И обзаведемся настоящим домом.
— Мне и здесь хорошо, — отвечала Хельга.
— Завтра, — продолжал я, — купим кровать, как наша старая — две мили длиной и три шириной и с изголовьем, как восход солнца в Италии. Помнишь ее? О, Боже, да помнишь ли ты ее?
— Да, — сказала она.
— Сегодня — в гостинице, а завтра — в такой же кровати, как та.
— Мы уже уходим? — спросила Хельга.
— Как скажешь.
— Можно, я сначала покажу тебе свои подарки? — спросила она.
— Какие подарки?
— Подарки тебе.
— Ты — мой подарок. Чего же мне еще желать?
— Надеюсь, этому ты обрадуешься тоже, — Хельга возилась с замками чемодана. Она открыла крышку, и я увидел, что он доверху набит рукописями. Это и был ее подарок мне — собрание моих сочинений. Собрание моих серьезных работ, едва ли не каждое слово, рожденное в сердечных муках мною, тем, былым Говардом У. Кэмпбеллом-младшим. Стихи, рассказы, пьесы, письма, неопубликованная книга — собрание самого себя, еще жизнерадостного, свободного и юного, совсем юного.
— Какое странное они у меня вызывают чувство, — сказал я.
— Мне не следовало привозить их?
— Сам не знаю. Ведь эти листки и были мною когда-то. — Я достал из чемодана рукопись книги, эксцентричного экспериментального произведения, именуемого «Записки Казановы-однолюба». — Вот это надо было сжечь.
— Скорее я дала бы сжечь свою правую руку, — возразила она.
Отложив рукопись книги в сторону, я вытащил стопку стихов.
— Что знает о моей жизни сей юный незнакомец? — спросил я и прочел вслух стихи. Стихи, написанные по-немецки:
Kühl ind hell der Sonnenaufganq,
Leis und süssder Jlocke Klang.
Ein Mägdlein hold, Krug in der Hand,
Sitzt an dcs tiefen Brunnens Rand.
Что это значит по-английски? В вольном переводе:
Рассвет холодный, ясный.
Колокол плавно звучит.
Девушка с кувшином,
Прохладный ручей журчит.
Я прочел это стихотворение вслух. Затем еще одно. Я был и остался очень плохим стихотворцем. Нет, восхищаться в моих стихах нечем. То, что я прочитал дальше, было, по-моему, предпоследним стихотворением, написанным мною в жизни. Датировалось оно 1937 годом и называлось «Gedarken über unseren Abstand von Zeitgeschen», что приблизительно соответствует английскому «Размышления о неучастии в текущих событиях».
Звучало оно так:
Eine mächtige Damrfwalse nacht
Und schwärkzt der Sonne Pfad,
Rolt uber geduchte Menschen dahin,
Wull Keiner ihr entfliehp.
Mein lieb und ich schann starrep Blickes
Daz Rätzel dieses Blutgeschickez.
«Kommit mit herab», die Menschheit schkeit,
«Die Maize ist die Jeschitchte der Zeit!»
Mein Lieb und tch gehm auf die flucht.
Wo Keine Damrfwalze uns sucht,
Und Leben auf dem Berdeshohen,
Jetrennt vom schwarzen Zeitdeschehen.
Zollep wir bleiben mit den andckn zu sterben?
Doch hein, wir zwci wollen nicht verderben!
Nun ist vorbei! — Wir zehn mit Erbleiclien
Die Opfer der Walze, verfailte Leichen.
А по-английски?
Огромный паровой каток
Все небо нам закрыл.
Никто ни шагу за порог.
Остался там, где был.
Лишь мы с любимой
Не поймем кошмарной аллегории,
Но вот и нам кричат:
«Ни с места! На вас
Идет история».
С любимой ноги унесли
На горную вершину.
Оттуда лишь взирали мы
На грозную махину.
Но, может, это был наш долг
лечь под каток истории?
Признаться, мы с ней не сочли,
Что это было б здорово.
Мы вниз спустились посмотреть,
Когда прошла махина,
О, Господи, ну и душок
Остался мертвечины!
— Откуда? — спросил я Хельгу. — Откуда это у тебя?
— Очутившись в Западном Берлине, я отправилась в театр узнать, сохранился ли театр, сохранился хоть кто-нибудь знакомый, слышал ли кто-нибудь хоть что-то о тебе. — Не было нужды объяснять, о каком театре говорила Хельга. Речь шла о маленьком театрике в Берлине, где шли мои пьесы, в которых она так часто блистала в главных ролях.
— Простоял почти всю войну, — кивнул я. — И до сих пор сохранился?
— Да, — ответила она. — Но о тебе никто ничего не знал. Лишь когда я объяснила, кем ты был для этого театра, кто-то вспомнил, что видел на антресолях сундучок с твоей фамилией.
Я провел рукою по рукописям.
— А в сундучке лежали они, — теперь я вспомнил сундук, вспомнил, как упаковал его и запер в самом начале войны, вспомнил, как подумал тогда, что в этот сундучок, словно в гроб, лег юноша, которым я никогда уже не стану.
— У тебя сохранились копии?
— Нет, — ответил я. — Ни единого клочка.
— Ты больше не пишешь?
— Ничего больше не нашлось такого, что мне хотелось бы сказать.
— После всего, что ты видел и пережил, дорогой?
— Именно после всего, что я видел и пережил, я и не могу, черт побери, почти что ничего сказать. Я потерял дар осмысленной речи. Обращаюсь к миру с какой-то тарабарщиной, и он отвечает мне тем же.
— Я нашла там еще одно стихотворение. Наверное, твое самое последнее. Ты записал его карандашом для бровей на внутренней стороне крышки.
— Вот как?
И Хельга прочитала его наизусть:
Hier liegt Howard Sampbells qeist qeborden,
Frei von des Kokpers dualenden sokden.
Sein leerer Leib durchstreift die Welt,
und Kargen Lohn dafir erhalt.
Triffst du die beiden detrent allerwarts
Verbrenn denn Leib, doch Schone dies, sein Herz.
А по-английски?
Здесь покоится жизни Говарда Кэмпбелла главное дело.
То есть душа его, освобожденная от суетного бренного тела.
Телу, с душой разлученному, на белом свете неймется.
Мается, бродит оно и получает то, что ему достается.
Если же Кэмпбелла тело с душой никогда не сольется,
Похороните его. А сердце — храните. Пусть здесь остается.
Раздался стук в дверь.
Это ко мне стучался Джордж Крафт, и я открыл ему.
Крафта всего трясло, оттого что пропала его трубка из кукурузного початка. Я впервые видел его без трубки и впервые понял, какое умиротворяющее действие она на него оказывала. Он так испереживался, что только не скулил.
— Кто-то взял ее, или засунул куда-то, или… Просто ума не приложу, кому понадобилось ее прятать, — ныл Крафт, явно рассчитывая, что мы с Хельгой разделим его горе, считая его важнейшим событием дня.
Он был просто невыносим.
— Кому потребовалось брать ее? Кому она нужна? — продолжал он, то всплескивая руками, то заламывая их, моргая, принюхиваясь и всем видом напоминая наркомана, страдающего синдромом наркотического похмелья, хотя в жизни ничего, кроме пропавшей трубки, не курил. — Нет, вот ты мне скажи, ну кому могла потребоваться моя трубка?
— Не знаю, Джордж, — раздраженно буркнул я. — Если найдем, сообщим.
— Можно, я сам поищу? — гнул свое Крафт.
— Да ради Бога!
И Крафт перевернул всю комнату вверх дном, заглянул во все горшки и кастрюли, хлопал дверьми всех шкафов, гремел кочергой под всеми батареями.
Его поведение вдруг сблизило нас с Хельгой, внезапно подтолкнув к былой простоте и естественности отношений, которую иначе, наверное, долго пришлось бы налаживать.
Мы стояли бок о бок, оба недовольные этим вторжением в наше государство двоих.
— Что, такая ценная была трубка? — спросил я.
— Для меня — да!
— Купи другую.
— Но мне нужна именно эта! Я привык к ней. И хочу найти ее, — с этими словами Крафт полез в хлебницу.
— Не могли санитары прихватить ее?
— С какой бы стати?
— Может, думали, что эта трубка покойника, — предположил я. — И сунули ее ему в карман.
— Точно! — завопил Крафт, пулей вылетая из двери.
23. ГЛАВА ШЕСТЬСОТ СОРОК ТРЕТЬЯ…
Как я уже говорил, в чемодане у Хельги оказалась моя книга. В рукописи. Для печатания я ее никогда не предназначал. Считал ее непечатной. Ну, разве что — для любителей порнографии.
Называлась она «Записки Казановы-однолюба». И повествовала о моих победах над бесчисленным множеством женщин, коими бывала моя жена, моя Хельга. Книга аналитическая и одержимая. Даже, говорят, безумная. Дневник, описывающий нашу эротическую жизнь день за днем на протяжении первых двух лет войны — оставляя за рамками все остальное. Абсолютно все. В книге нет ни единого слова, по которому можно определить век или регион ее происхождения.