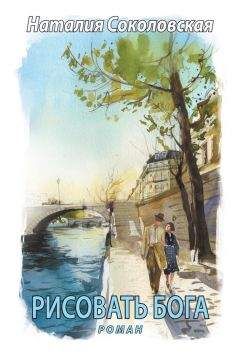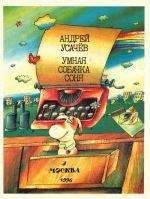Михаил Белозеров - Плод молочая
Ибо в жизни все заранее предопределено от рождения до гробовой доски.
Я лежал в вагоне, набитом отпускниками, добирающимися к Черному морю.
Я ввинчивался в ночь, во все четыре измерения, в пустоту. И только проносившиеся огни напоминали о реальности существования, и время проскальзывало, как бесшумная птица, и духота была подобна чудовищно-необъятной перине.
Но настал момент, когда проводник растолкал меня и сообщил, что следующая станция моя.
"Когда они пришли, я так испугалась. Я даже не могла собрать отцу вещи — у меня все валилось из рук. Я не знала, как переживу это второй раз! Они были силой, которая меняет жизнь сразу, в один момент! — сказала мать. — Я все помню!"
Теперь я знал, чего испугалась мать.
От этого пугаются на всю жизнь.
От этого пугаются так, что испуг передается с генами.
С этим начинают жить. С этим ложатся спать и просыпаются.
И никуда это не уходит.
Это страх!
— Они приехали на директорской машине. Рылись в его столе и унесли все бумаги. Они были так уверены в себе, что дали ему доужинать и собраться... Как я его умоляла! Как просила! Не связывайся, вспомни отца! Ведь они никого не жалеют!
Она смотрела на фотографии.
Наконец добралась до той, где они с отцом сидят за столом, который заставлен снедью, и на ее руке блестит тонкое кольцо...
И онемела.
Я уловил на ее лице то, что совсем недавно наблюдал в домике с голубыми наличниками.
Если бы я был художником, я бы назвал картину "Воспоминания", или "Былые годы", или "Встреча с прошлым", или еще как-нибудь сентиментально-приторно, ибо это и есть суть нашей памяти как таковой — цепляться за прошлое; но обязательно бы назвал именно так, потому что это еще одна координата жизни.
Она поднялась и вышла, словно сомнамбула, из комнаты, где ветерок кондиционера раздувал необычайно белую тюль на окне, и ушла в свою комнату. Я подумал, что, быть может, ей хочется побыть одной, но она позвала меня, и я пошел к ней.
Она лежала на диване и молчала. Ее бил озноб. Я укрыл ее пледом и решил приготовить чай. Пока закипала вода, я несколько раз заглядывал в комнату. Мать уже полусидела, закрыв глаза, и фотография была зажата у нее в вытянутой руке.
Может быть, она сожалела об ушедшей молодости, о том времени, когда она была счастлива (мне почему-то так хотелось думать), хотя это время и было помечено каиновой печатью. Может быть, оно ей было дорого, как будет дорого мне настоящее, которое через день станет прошлым, а через год — безмерно-прошлым. Может быть, это тоже была истина или хотя бы часть ее.
Потом я дал ей лекарство, которым не так давно отпаивали отчима, и она, держа на коленях чашку с чаем, спросила:
— Ты помнишь отца?
И все — словно не было ничего — ни давнего резкого разговора, ни тени отчима, незримо стоящей между нами, ни обостренного недоверия. Словно в душе я был перекати-поле — странник, жаждущий приюта и одновременно вкушающий плоды наивности, потому что нельзя же все время прощать — даже родную мать.
Я покачал головой.
Помнил ли я отца?
Если бы помнил, я бы не написал о нем то, что написал. Я бы добрался до правды, до сути, до последнего атома, а не плел бы романтическую кисею.
Нет, я помнил его сапоги, колющую щетину, когда он подхватывал меня на руки и прижимал к себе, я помнил его голос, от которого дом становился его домом, потому что для будущего мужчины была важна сила, я помнил его шаги и скрип половиц.
И это, пожалуй, все — из того, что именуется памятью.
Хотя... хотя я помнил еще сотни вещей, которые были связаны с ним и которые я придумал позднее, и уже не мог разобраться, что было плодом фантазии, а что действительно существовало в доме на краю тундры.
Дом стоял под сопкой над разбитой машинами дорогой.
Когда начинались долгие, нудные дожди, валуны, вкривь и вкось выпирающие из скудной земли, лоснились, словно политые маслом, и все вокруг лоснилось и блестело, как лакированное, — и некрашеные стены, и забор, и ветки кустов с крохотными листьями. И если дожди затягивались, то ручей, текущий неподалеку в лощине, набирал силу, машины на съезде притормаживали и осторожно сползали вниз, а вода под колесами пенилась и из прозрачной становилась молочной и уносила к заливу мелкие камни и песок. Позже отец брал лопату и расчищал русло. Вода стекала, и обнажались камни и подмытые корни растений.
И еще я помнил его чемодан, который всегда стоял в коридоре на полке для обуви. Если утром я обнаруживал его на месте, значит отец был дома, и я отправлялся искать его и находил спящим или бреющимся на кухне, или рубящим мерзлый уголь в большом ящике рядом с домом.
Чемодан был символом отца. В нем всегда хранилась пара чистого белья, зеленые армейские рукавицы с двумя пальцами, набор карандашей в плоском футляре, там же лежали резинка и перочинный нож для очинки карандашей, коробка с походной бритвой, одеколон в синем флаконе и фляжка для чая, если время было летнее. Бывало, что я обнаруживал в нем непонятные чертежи и бумаги. Я тайком рассматривал и перебирал эти вещи, раскладывал по местам и мечтал, что когда-нибудь и у меня будет такой же чемодан с такими же интересными вещами.
Много позже я понял, что значило сохранить в лагере рукавицы. Но он их сохранил — это была его ниточка надежды, ниточка, связывающая его с домом и женой.
Помнил ли я отца?
Для меня отец был всем — детством, простором и Севером.
Таким был отец, и, значит, я его помнил!
— Да, я помню! — ответил я матери.
— А нашего Рекса?
— Да, и Рекса тоже.
— Помнишь, вы ходили ночью на сеновал и принесли щенка?
— Да... — ответил я неуверенно.
— Была зима, помнишь? А сугробы такими, что в них можно было зарыть дом, помнишь?
Признаться, я не помнил, но все равно ответил:
— Да...
— А вы принесли девочку, и я заставила вас идти назад, помнишь?
— Розку? Ее потом назвали Розка...
— А уже во второй раз вы принесли Рекса, и ты его так назвал.
— Он еще сильно мерз, и я кутал его в отцовский бушлат.
— Зимы тогда были холодными... Сядь рядом.
Она подоткнула плед, и я сел.
Я подумал, что совсем не заметил, как она постарела, и вспомнил, как уже в этом городе мы шли с нею на рынок мимо решетчатой ограды, за которой среди густой зелени мелькали заборчики и кресты кладбища, и она сказала: "Когда-нибудь я умру и стану вот таким деревом". Тогда я едва не заплакал от любви, собственного бессилия и жалости к ней.
— Скажи мне... — начал я осторожно, ибо в комнате еще плавал запах валерианы, — скажи мне... почему ты... тогда уехала?
Она ответила не сразу, словно взвесила ту меру правды, которую можно было выложить на весы истины, и улыбнулась той улыбкой, которую я терпеть не мог в ней, потому что улыбка означала ложь и выяснить что-либо после этого было пустой тратой времени — она ускользала подобно легкомысленному облачку и отделывалась односложными фразами и улыбочками.
Но теперь она ответила, потому что в руке лежала фотография и врать не имело смысла.
— Я испугалась... — сказала она и улыбнулась с мольбой, как от внутренней боли, и я не почувствовал обмана.
В первый момент я вообще ничего не почувствовал за этим ответом-пустышкой — почувствовал потом, словно тебе на всем бегу подставили подножку, и ты летишь и даже получаешь удовольствие от свободного падения — до того момента, пока не грохнешься на пыльную мостовую и обдерешь коленки и локти.
— ... ты можешь мне не верить, — вдруг сказала она и заставила на мгновение устыдиться, — но... но это надо пережить, надо пережить тот ужас, когда к тебе врываются среди ночи, роются в вещах, читают письма, говорят гадости, надо пережить пустоту квартиры, зимой — голую лампочку под потолком, ветер за окном, надо пережить мерзлую картошку и дикий холод, потому что ни угля, ни дров, надо пережить, наконец, позор, стыд, ежеминутную возможность, что к тебе снова придут... Ах! — Она замолкла и сжала виски, — пыль улеглась, и тогда я почувствовал, как болят ободранные коленки и локти.
— Ты думаешь, я его не любила? — потребовала она ответа. — Нет... — и мольба ее наполнила меня. — Представь, если бы и со мной что-нибудь случилось? Что стало бы с тобой? А потом появилась возможность изменить жизнь... в общем, — все, даже имя... — Она подняла фотографию. — Словно в другой жизни и совсем не я... Если бы ты знал — каждый раз, как я смотрю на тебя, я вижу отца...
— Когда я впервые увидел его, — сказал я, — у меня в душе все перевернулось и стало пусто-пусто.
Вышло, что я нашел тот "шплинт" (или решил, что нашел), крохотную детальку, которой не хватало для полноты мира, и вопросы по важности поменялись местами — первый стал вторым, а второй — первым.
Из этого вытекало следующее: отец имел достаточно времени, чтобы осознать нравственное значение своего отказа от отца. Цена — разрыв с семьей, и в этом мать сыграла не последнюю роль. Вероятно, здесь и крылись странности его отношений с матерью — тот неуловимый налет в семье, который так легко улавливается детьми, потому что ребенку трудно понять связь временных событий, но легко почувствовать взаимоотношения между родителями.