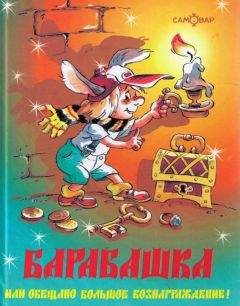Ярмолинец Вадим - Свинцовый дирижабль «Иерихон 86-89»
Михал Михайлович встретил нас у калитки и, с ходу заключив Наташу в объятия, оторвал от земли и так – навесу – расцеловал в обе щеки.
– Доця моя, ну, что ты не позвонишь папке хоть когда-никогда?
Какие нежности е-мае!
– Так, тебя же все равно никогда нет, – ответила та, болтая в воздухе своими чудесными ногами.
– Ах, какая взрослая ты у меня стала! Уже пора замуж выдавать.
Не отпуская ее, он протянул мне пять.
– Как успехи?
– Нормально, Михал Михалыч, – отчитался я, поскольку перед таким человеком надо было только отчитываться и только за успехи. В чем? В такие мелкие мелочи ему вдаваться было недосуг.
– Ну, проходите. У нас тут уже гулянье в разгаре.
Мы прошли по асфальтовой дорожке между двух рядов аккуратно подрезанных и подвязанных виноградных кустов. Сквозь еще молодую, некрупную листву были видны головы танцевавших гостей на площадке перед домом. Магнитофон орал голосом Макаревича: “Мы себе давали слово, не сходить с пути прямого, но, так уж суждено! И уж если откровенно, всех пугают перемены, но, тут уж все равно! И вот, новый поворот! И мотор ревет! Что он нам несет?”
Меня от этой песни тошнило. Еще сильней меня тошнило от самого Макаревича, от его напускного вида усталого гения, поскольку этот гений играл, как играли 20 лет назад группы типа Creedence. Хотя, нет, что я говорю! У тех что ни песня, то хорошая мелодия, взять одну только Who’ll Stop the Rain, а у “Машины” что ни песня, то фига, и даже не в кармане, а возле него, чтобы начальству видней было. И начальство в своем перестроечном порыве мимо этой фиги не прошло. И вот пожалуйста – мотор ревет и новый поворот! И такой он, всем на радость, заводной, перестроечный, оптимистичный и снова с фигой, поскольку содержит щекочущий начальственные нервы вопрос: “Что он нам, всте-таки, несет – пропасть или взлет?” Между тем, вопрос чисто риторический, потому что новый поворот несет Макаревичу с его бригадой в красивых разноцветных пиджаках взлет, а всем остальным – не несет ни хрена! Ну, если не считать, конечно, бодрости духа, особенно необходимого в очереди за колбасой.
– Привет, сеструха! – Таня, расцеловала Наташу в обе щеки и, схватив за руку, потянула к танцующим, а цветы с невысказанными поздравлениями остались у меня. Я двинулся к столу. У меня есть золотое правило – оказываешься в обществе незнакомых людей, тут же опрокинь грамм сто для преодоления первых минут неловкости.
– Присаживайтесь, Митя! Вас Митя зовут? – спасла меня Танина маман, приняв букет на себя. Роскошная брюнетка с сигаретой в уголке полных, вишневых губ, она, конечно, была несравнимо лучшей парой Михал Михайлычу, чем его первая любовь. Она и моложе была Надежды Григорьевны лет на десять.
– Да, Митя. А вас?
– Нина Ефремовна. Можно просто Нина. Угощайтесь, холодец, салаты, отбивные, водка. Шампанское поберегите для дам.
Я начал с холодца, добавив к нему соленый огурчик. Холодец на свежем воздухе начал таять, но не потерял от этого своей стратегической важности. Он был идеальной смазкой желудка перед приемом алкоголя. Роль огурчика была чисто эстетстическая – ликвидация водочного духа во рту после ее приема на грудь. Проглотив кусочек холодца, я налил водку в толстенькую хрустальную стопку, опрокинул ее и закусил огурчиком. Все сработало на пять с плюсом.
– Вы, я вижу, знаете свое дело, – отметила Нина Ефремовна, щурясь от сигаретного дыма.
– Годы тренировки, – согласился я.
– Снимите пробу с осетрины.
– Непременно, – заверил я ее, и налил себе еще полстопки, взглядом разыскивая среди тарелок названное блюдо. Вы будете смеяться, но я осетрину в своей жизни не видел. Много слышал, но видеть не довелось. Я также не видел трюфелей и не пил бенедиктин.
Нина Ефимовна смотрела теперь на танцующих.
– За па-а-ва-аро том-но-вый-па-ва-рот! – не унимался Макаревич. – И-ма-тор-ре-вет!
– Так как успехи? – папан сел рядом и устроил тяжеленную руку на моем плече. Потом, видимо, осознав, что я долго такой нагрузки не выдержу, убрал. Воспользовавшись полученной свободой, я сдобрил очередную порцию холодца хреном и еще раз смазал желудок. Он же продолжил:
– Над чем работаете? Какие-то острые темы? Время сейчас требует остроты. Критического взгляда. Смелости.
Интересно, видел ли он во мне потенциального жениха для своей повзрослевшей доци? Я, конечно, был для него и его жены чистой воды дворнягой. Но поскольку я прибился к их двору не сам, а был приведен, им приходилось проявлять вежливость. На всякий случай.
– Я в основном пишу очерки, – сказал я. – У людей столько историй.
– Вы хорошо начинаете. В комсомолке начинали многие мои знакомые. Витя Конев вон в Москву прыгнул. Умнейший парень. Умнейший. А как вам дается работа?
– Нормально.
– Коллектив хороший?
– Очень хороший.
– Это приятно слышать. Творческие люди – народ сложный. Тяжело, так сказать, притирающийся друг к другу. Индивидуальность не терпит чужого мнения. Но при правильном руководстве работа именно такого коллектива дает отличный результат. Такую газету всегда ждешь. Читаешь ее с интересом. В такой газете всегда находишь неординарный взгляд на вещи, свежие мысли. А у вас какая должность сейчас?
– Корреспондент.
– Корреспондент, это – хорошее начало. Репортер. Всегда в гуще событий, всегда на передовой. С лейкой и блокнотом!
– Или с пулеметом! – добавил я, тут же обратив на себя внимание его жены.
Мы с ней засмеялись. Глазами. Не знаю над чем смеялась она, но я смеялся над собой, поскольку едва удержался от того, чтобы не спросить его, когда он последний раз читал нашу газету и какая мысль в ней показалась ему неординарной?
– Ну, хорошо, не буду вас отвлекать от еды, – он снова, но уже осторожней, чтобы не зашибить ненароком, похлопал меня по плечу. – Если нужна какая-то поддержка, совет, всегда пожалуйста. Ната знает, как меня найти. И обязательно попробуйте осетринку. Я, пожалуй, и сам возьму ломтик под рюмочку.
Он привстал, протянул руку с вилкой и подцепил из тарелки в центре стола ломтик белой, сильно вспотевшей, рыбы. Он опустил его мне в тарелку, я помог ножом освободить ему вилку, потом он взял второй, но поскольку его тарелки рядом не оказалось, так и остался с рыбой в руке.
– Нина, будь добра, подай мне мою рюмку.
Та взяла свою рюмку и протянула ему. На хрустальном ободке был виден полукруглый след вишен. Интересно, он оценил это как пикантность или нарушение элементарных правил санитарии и гигиены? Если – второе, то я был готов махнуться с ним посудой.
– Ну, наливайте, товарищ корреспондент.
Он, кажется, забыл как меня зовут. Что ничуть не помешало мне аккуратно разлить водку в наши рюмки. Мы чокнулись.
– За именинницу, Михал-Халыч, – сказал я и выпил.
Вернув стопку на стол, я обнаружил, что мой собутыльник вступил в ожесточенную схватку со своей хваленой рыбой. Краснея от усердия, он яростно шевелил губами и зубами, пытаясь перекусить белый ломтик пополам, но что-то, может быть какая-то прожилка, мешала ему. Устав от борьбы, он, продолжая держать часть рыбы во рту, снял неподдающийся край с вилки пальцами, но вместо того, чтобы отправить его ими же в рот, стал подхватывать край кончиком языка. Скользкая рыба легко уходила от него и тогда, рассвирепев, он просто втянул ее в себя, издав при этом совершенно душераздирающий звук, в котором смешались клекот, шипение и свист. Он явно дошел до той степени отчаяния, когда было не до приличий. Усилие было таким мощным, что весь кусок улетел в дыхательное горло, вызвав взрыв кашля. Вцепившись огромными пальцами в край стола, он стал кашлять ритмично и оглушительно, иногда даже перекрывая рев мотора Макаревича и встреченные им повороты, взлеты и пролеты, которым просто не было никакого конца и края. Что мне понравилось больше всего, так это, что подруга личной жизни Михаила Михайловича в продолжении всего этого драматического эпизода с возможным летальным исходом, не шелохнувшись, продолжала смотреть на танцующих. Это было ужасно. Тут тебе была и демонстрация полного бесчувствия к страданиям ближнего, и совершенно безжалостный перевод дефицитного товара, которым надо было наслаждаться, а не давиться.
Я, конечно, мог постучать ему по спинке ладошкой, но для его спинки, лучше подошла бы рельса. Или шпала. Как я уже говорил, он был мужчина крупный от природы и льгот профессии.
Михаил Михайлович, наконец, затих, перевел дыхание, утер салфеткой пот с побагровевшего лба и, заметив, что он тут чуть лыжи не откинул, ушел в дом. Слава те Господи, оставив меня наедине с моей тарелкой, холодец в которой превратился в густой бульон. Натюрморт был оживлен хреном, который пустил малиновый корешок через студенистую серую массу и проник в рыбу. Я взял еще один огурчик и налил еще одну стопочку. Я был на подходе к тем самым ста граммам, которые делали меня своим в любой компании. Когда я собирался уже опрокинуть ее, хозяйка сказала:
– Митя, налейте мне тоже, если не сложно.