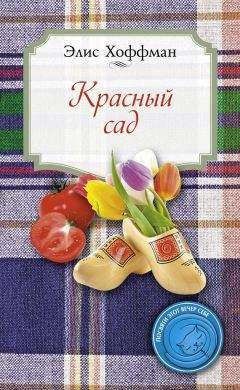Василий Аксенов - В поисках жанра
Однако удача-то с маленьким автобусом была не ахти какая удачная. Как стали прощаться в Псковской уже области, водитель радио выключил и скривился на серебро в коричневой ладошке:
— Мало кидаешь, мамаша!
Маманя ахнула, сердце заколотилось, подсыпала из «радикула» еще парочку монет.
— Бумагой платить надо, милая, — пожурил ее водитель, да так вежливо, что Маманя его даже, как волка, испугалася.
Из трех бумажек, что оказались после этого в дрожащей Маманиной руке, из пятерки, трешницы и рублика, водитель выбрал самую новенькую, чистенькую — трешницу. Даже пятеркой побрезговал из-за поношенности. Выбрал и отпустил тогда Маманю с миром и даже два пальца приложил к непокрытому лбу, будто фриц.
Как она горевала по этой трешке! Ведь на автобусе-то и двух рублей не натянуло бы от сих до сих! Трешечка, трешечка моя трефовая трешечка шишечка шишечка с маслицем трешечка кошечка выгляни в окошечко троячок мужичок поволок за бочок куяк не куяк а выкладывай трояк!
Однако дальше пошло сносно. Растерянную Маманю подобрал трактор с удобрением и довез до могучего автохозяйства, что посередь чистой прохладной земли мощно рычало и ворочалось в собственной грязи. Оттуда Маманя выехала в пребольшущем дизельном тягаче, сверху поглядывая на поля и леса, будто принцесса. Еще солидный кусок дороги скушала Маманя на желтой цистерне «Молоко», и это был путь приятственный, подушечка под заднюшечкой мягонькая, а от водителя Игорехи (как он сам себя назвал) молочком природным потягивало. Конечно, уж больно часто Игореха матерился, и Маманя поначалу немного вздрагивала, но потом привыкла — матерится человек, как дышит, без всякого зла и смысла.
Всем этим товарищам — и трактористу, и дизелисту, и молоковозу — Маманя бросала денежку в кармашек, приговаривая: «На табачок, на конфетки деткам, на пивко-лимонад» — в зависимости от типа водителя. Очень это ловко получалось — малая денежка летела в кармашек, а шоферюга только глазом косил. Маманя даже возгордилась, как ей в голову пришла такая славная хитрость — денежку в кармашек. На этом деле Маманя, безусловно, возместила себе безвозвратно погибшую трешницу.
И вот мы наконец видим нашу Маманю, хромающую через большое и пустынное село Никольское к магистрали союзного значения — широченной дороге, разрисованной вдоль линиями и со столбиками на каждую сотню метров. Мамане, конечно, село Никольское кажется единственным в мире селом Никольским, в Устюжинском родном районе такого названия нету, и Маманя не подозревает, что в России Никольских-то сел что звезд на небе. Экое преогромное село-полугород и совершенно сейчас безлюдное — во дворах кобели брешут, в избах голубые экраны полыхают, никого не спросишь ни о чем.
Махонькая Маманя в плюшевой жакеточке долго мокла на магистрали союзного значения прямо за знаком «Остановка запрещена». Не снижая скорости, мимо нее проносились и грузовики, и фургоны, и такси. К слову сказать, Маманя все легковые машины называла по-своему — такси. Помнилось, как Зинаида с Константином приехали к ней однажды (еще до деток) пьяные и веселые и все говорили: такси, такси, приехали на такси и уедем на такси.
И вот появилась синенькая, хорошенькая, чистенькая под дождиком «такси», которая, разглядев вдруг Маманю, заморгала правым глазом и приблизилась. Опасное, конечно, дело — такси. Того гляди, еще попросит бумажных денег. Тем не менее Маманя себя и ножку свою занывшую пожалела и влезла в сухое, да теплое, да музыкальное место. Эх, тратиться так тратиться — давай гони!
— Ай такси-то у тебя хорошая, ай накатистая, — пропела вежливо Маманя, приглядываясь уже, где у водителя «кармашек».
— Это, простите, не такси, — поправил старушку Павел Дуров.
— Не самосвал же! — хихикнула Маманя и глазом по водителю, по синей рубашке с медными пуговицами. — Я, чай, ты моряк будешь, мальчик дорогой?
— Моряк-моряк, — с готовностью покивал Павел Дуров. — Меня зовут Павел. А вы куда путь держите?
— В Новгородскую область, в поселок Сольцы, — не без гордости ответила Маманя.
Павел Дуров левой рукой обхватил руль, а правой открыл автомобильный атлас, прошелся по нему пальцем.
— Почти сто двадцать километров нам с вами по пути… — проговорил он и как-то вроде бы не закончил, вроде бы вопросик подвесил, обратился к Мамане вопросительным лицом.
— Ты чего, мальчик дорогой? — удивилась Маманя.
— Ваше имя-отчество?
— А Маманей меня называй.
— Маманей? — изумился Павел Дуров.
— Ага. Меня все Маманей зовут. Ну а ежели не с руки, зови тогда Маманя-Лиза. Лизавета я, значит, Архиповна. Ну вот… — Она устраивалась поудобнее в теплой машине, что, тихонько журча, несла ее по сырой земле, к дочери Зинаиде. — Ну вот, а еду я, мальчик дорогой, к дочери своей Зинаиде, которой мужик Константин, законный супруг, дурака завалял с библиотекаршей Лариской. Вот видишь, мальчик дорогой, получила я письмо от Зины, и сердце захолонуло — от родной дочки такие горечи получить не дай тебе Бог! — Маманя развязала «радикул» и показала Дурову исписанную с двух сторон страничку арифметической тетради. — Вот, глянь.
— Не могу читать на ходу, Елизавета Архиповна, — виновато улыбнулся Дуров.
— Тогда я сама тебе прочитаю! — решительно сказала Маманя и надела очки. — Слухай! «Здравствуйте, многоуважаемая моя маманя Елизавета Архиповна! Из далекого леспромхоза, затерянного в живописной новгородской земле, шлю свой горячий привет двоюродному брату Николаю, тете Шуре, дяде Филиппу, маленьким деткам Юрику и Виталику, особенно директору нашей школы Евдокии Терентьевне, которую часто вспоминаю, как в песне поется, „учительница первая моя“, подругам и коллегам Нине, Тамаре и Аркадию Осиповичу, если еще помнит, а также всем односельчанам, с которыми прошли мы годы и версты по нехоженым тропам жизни. Если бы Вы сейчас были со мной, мамушка родная, неизбежно не узнали бы родной дочери. Константин фактическим образом не ночует дома, а на глазах всего нашего лесного коллектива отдает библиотекарю Ларисе свой ум и честь и носит через улицу шампанское и кондитерские изделия. Я не знаю, маманечка, что с собой сделаю! Хоть бы хоть красивая была, сука дорожная! Мне жизни нет совсем, ни месяца, ни звезд не вижу, и хочется плакать, когда слышу эстрадные песни. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Дети наши отца Константина уже ставят под вопросом и спрашивают — как ножом режут, а мне пожаловаться некому никогда… хоть бы пачку вероналу, но Вы не верьте этим глупостям. Остаюсь любящая Вас дочь Ваша Зинаида. Внучата Алик и Танечка кланяются Вам с глубоким уважением. А может быть, запросы у меня слишком высокие, может, оттого это случилось, что не разглядела в Константине человека с большой буквы? Эх, мама…»
Маманя разрыдалась вдруг так бурно и горько, что Дуров растерялся и не нашел ничего лучше, как прижаться к обочине и выключить мотор. Полез в походную аптечку, накапал валерьяны.
— Учила! Холила! Зиночку! Деточку мою! На фельдшера выучила, а отдала злодею!
— Елизавета Архиповна, Елизавета Архиповна! Позвольте пульс!
Пульс у Мамани оказался, как хорошие часики. Горький порыв свой она остановила, достала из «радикула» сухую тряпочку и вытерла лицо.
— Ну, мальчик дорогой, что ты скажешь теперь мне, своей попутчице несчастной?
«Бредовина какая-то, — подумал Дуров. — Что я могу ей сказать?»
— М-м-м, — сказал он. — И вы, значит, к Зинаиде двинулись, Елизавета Архиповна?
— Вот так и двинулась!
— А цель ваша?
— Цель? Я им поцелюся! Где это видано, чтоб муж при живой жене с библиотекаршей ни от кого не скрывался?
«Где это видано? — спросил себя Дуров. — Действительно, где такое невероятное событие могло случиться?»
— Значит, вы, собственно, не Зину утешать свою едете, а, собственно говоря, активно хотите влиять на Константина?
— У Зинки все лекарства выброшу в уборную, а Костю за руку в дом верну, да еще и уши надеру!
Сказано это было с энергией и решимостью.
Дуров посмотрел на старушечку. Эге, старушечки, как говорят, свое дело знают туго. Да, это, конечно, активная старушечка, знаток человеческих сердец.
— А что же будет делать библиотекарша Лариса, одинокая, красивая, несчастная?
— Как сука дорожная, — процитировала Маманя Зинкино письмо.
Из плюшевой жакеточки, из суконного серенького платочка, из оправы бабской российской доброты вдруг выглянуло малоприятное, бессмысленное от злости куриное рыльце.
Они проезжали маленький городок. Точно такие же, как Маманя, тетушки-старушечки, казалось, преобладали среди местного населения. Активно и шустро хлопали дверями магазинов, с озабоченными лицами трусили к автобусным остановкам, тащили кошелки, сетки, толкали тележки кто знает с чем. Дуров отмахнулся от промелькнувшего неприятного впечатления от куриного рыльца. Уж если и тетушек этих выбросить, этих самозабвенных хозяюшек, ничего тогда не останется, пустое будет поле.