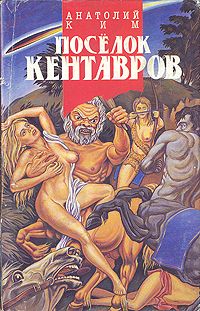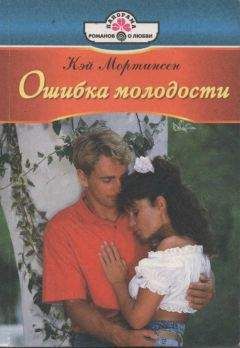Илья Штемлер - Завод
Павел нахмурился — не мог он спокойно размышлять об этом. Что-то происходило с ним. А что — непонятно.
Павел привычно взглянул на окна в третьем этаже. Темно. Вероятно, телевизор смотрят. Он вызвал лифт и заглянул в почтовый ящик. «Вечерки» еще нет. Ладно, потом Кирилл сбегает.
В комнатах было темно и тихо. Телевизор не работал. Никого. Павел повесил куртку, прошел в ванную. Долго и тщательно мыл руки, словно врач. На кухонном столе поджидала записка: «Все в холодильнике. Ешь. Приду — расскажу. Татьяна».
В лотке аккуратно, словно на витрине, покоилась утка, обложенная картофелем. Кирилл, значит, еще не приходил, а то бы от этой витрины ничего не осталось. Последние три дня они виделись мельком и почти не разговаривали.
«Сам виноват, а еще нос воротит», — угрюмо думал Павел. Поведение сына огорчало и злило. И «вечерять» с бригадой Кирилл не оставался. По звонку уходил домой, не прощаясь.
Разогревать еду не хотелось. Павел выложил утку на тарелку, достал хлеб. В прихожей щелкнул замок.
— Мама? — спросил Кирилл.
Павел переждал, потом выдавил грубовато и резко.
— Это я.
Кирилл молча прошел в кухню.
«Женился бы он скорей, что ли», — подумал Павел, не глядя на сына.
Тот подошел к холодильнику и открыл дверцу.
— Есть будешь? — спросил Павел.
— А что? — сухо спросил Кирилл.
— Утку… Разговаривает, словно одолжение мне делает, — не выдержал Павел.
Ели молча. Утка хрустела тонкой коричневой кожицей. А картошка была розовой, сахаристой. Хорошо готовила Татьяна, а утку она запекала просто превосходно. От такой еды и настроение улучшается.
— Жалел я тебя в детстве, драл мало. — Голос Павла звучал добродушно. — А еще мою фамилию носишь.
— Дал бы мне девичью фамилию мамы. Все ты заранее знаешь, государственный ум, говорят, а это упустил. — Кирилл отодвинул тарелку и подошел к крану ополоснуть руки. — Рыжий я у тебя, батя.
— Кто рыжий? — Павел усмехнулся. — Ты, пожалуй, шатен.
— Нет, рыжий.
Павел отломил край спичечной коробки под зубочистку и с любопытством посмотрел на сына: что он еще скажет?
— Я в бригаду Синькова перехожу. — Кирилл вытер руки салфеткой. — Так будет лучше всем: и тебе, и твоему Сопрееву. — Не глядя на отца, Кирилл пошел в свою комнату.
Павел вскочил и тяжелым, широким шагом прошел следом за сыном. Он и сам не знал, для чего это делает. Распахнул дверь. Сын стоял у окна. Высокий, широкоплечий.
— Бить ребенка — последнее дело, — не поворачивая головы, произнес Кирилл.
— Сопляк ты. И негодяй!
4— Ты не сердись, Паша, но я опять была в кафе. — Татьяна сняла плащ и повесила на вешалку.
Павел взглянул на часы. Двенадцать без пяти. Он молча вернулся в спальню. Татьяна заглянула в комнату Кирилла. Потом повозилась в ванной. Что-то делала на кухне, легонько звякая посудой. Наконец вошла в спальню и села на кровать.
— Ты не спишь? Я знаю, ты не спишь, Паша. Рассердился?
— А чего мне сердиться. Семейка… Муж дома, а жена ходит по кабакам. Я хочу спать! — Он резко повернулся, и кровать жалобно скрипнула.
Татьяна вытащила шпильки. Волосы рассыпались по плечам и спине.
— В восемь позвонила наш инспектор Мария Николаевна, сказала, что у нее именины. Собралось несколько человек. А в кафе официант нас узнал. Что это вы, бабоньки, говорит, веселитесь систематически? Недавно тут тоже девишник из галантерейного магазина собирался. А потом растрату обнаружили. Может, науськать на вас ревизора, пока не поздно? Любезный такой официант. Даже цветы мне подарил. Только я их потеряла.
— Странно, что ты голову не потеряла! — Павел сел на кровати и потянулся за сигаретами. Татьяна нашарила спички, зажгла. Он прикурил.
— Ну, не сердишься больше? Спроси завтра Марию Николаевну.
— К черту Марию Николаевну! Мало мне неприятностей с сыном, так еще жена алкоголичка.
Татьяна отодвинулась. Голос ее слегка задрожал.
— А что с сыном?
— Ничего. Негодяем растет! — Павел рассказал о том, что произошло.
Татьяна взбила подушку, откинула одеяло и легла. Несколько минут она лежала тихо, вытянув руки вдоль тела.
— Но ты ведь сам хотел этого, Паша. Говорил, сплетничают на заводе. А Сопреева и я недолюбливаю, ты же знаешь.
— При чем тут Сопреев? — закричал Павел. — При чем?
— А при том… За какую вожжу Сопреев дернет, туда ты и поворачиваешь. И сам не замечаешь. Потому что и ты в выигрыше оказываешься. Привык. Только кто из вас больше выигрывает, надо еще посмотреть.
— Мы не играем. Мы работаем. — Павел загасил сигарету. Упоминание о Сопрееве приглушило его негодование.
Широкие лучи автомобильных фар скользили по стене, высвечивая розетку, кусок шнура, горшочек с цветком.
— Знаешь, пусть идет. У Синькова ему лучше будет. Все-таки они почти сверстники, — сказала Татьяна.
— Выходит, опять прав Мишка Сопреев, — подумал Павел, но промолчал. Он следил, как яркий автомобильный луч отошел в сторону от обычной трассы и осветил большую фотографию, на которой много лет назад запечатлели свои улыбающиеся физиономии Татьяна, Павел и Генка Греков, нынешний главный инженер завод.
— Сколько нам было на том снимке? — спросил Павел.
— На каком? — удивленно произнесла Татьяна.
— На том, где Генка и мы с тобой.
— Мне двадцать… Чего это ты вдруг?
— Людьми уже были. — Павел вздохнул и прикрыл глаза, стараясь уснуть.
— А я перчатки в кафе забыла, — тихо проговорила Татьяна. — Хотела положить в сумочку и, видно, обронила. Жаль, если пропадут. Замшевые.
— Меньше надо пить, — буркнул Павел, не размыкая глаз.
Глава четвертая
На матовой рифленой перегородке фигура Всесвятского выглядела забавно, и тень напоминала причудливый пенек.
В отделе стоял обычный деловой шум. Перестук счетов прерывался треском арифмометра или подвыванием электрической счетной машины. Заканчивали квартальный отчет по трем цехам, и работы было невпроворот.
— Мужчина сейчас марку свою потерял. — Мария Николаевна покручивала арифмометр и выписывала цифры. — Так что замуж идти нет никакого смысла.
У Татьяны не было настроения поддерживать разговор. Утром она вновь говорила с Павлом о сыне. Конечно, Павел переживает его уход из бригады, но сам виноват.
— Возьмите меня, — продолжала Мария Николаевна. — Десять лет как осталась одна с дочкой. А живу так же, как и при муже-покойнике, пусть земля ему будет пухом. А он говорил: останешься без меня, Маша, хлебнешь трудностей. Вот бухгалтерию домашнюю он вел хорошо. Квартплата. За свет. За газ. Квитанции выписывал аккуратно.
В отдел ворвалась Аня. Стрельнув взглядом в рифленую перегородку, она произнесла негромко:
— Вы тут сидите, а Герасимова в бухгалтерии кофту продает.
Все разом обернулись к Ане.
— Вот. Сорок пять рублей. — Аня развернула сверток.
Розовая кофта из приятной мягкой шерсти блеснула черным бисером вышитых цветов.
— Велика она тебе, Анька. Я вижу, что велика кофта, — проговорила Мария Николаевна.
— Померить бы. Только очень толстое платье на мне. — Аня вновь посмотрела на перегородку. Всесвятский сидел на месте не шевелясь.
Мария Николаевна щелкнула задвижкой замка и махнула рукой Ане — переодевайся быстрей.
— Вдруг Шарик выйдет? — испуганно шепнула Аня.
— Мы его обратно загоним! — Марию Николаевну охватил азарт.
— Была не была! — Аня рывком стащила через голову шерстяное платье и осталась в синей комбинации.
Кофта и вправду оказалась велика. Женщины, едва сдерживая смех, разглядывали Аню. В дверь постучали.
Аня обмерла.
— За шкаф, за шкаф! — Татьяна затолкала Аню за шкаф и для маскировки распахнула дверцу.
Мария Николаевна отперла дверь. Вошел Греков.
— Производственные секреты? — спросил он, поздоровавшись.
Женщины промолчали. Главный инженер нечасто захаживал в планово-экономический отдел, поэтому растерянность на лицах сотрудниц можно было объяснить его внезапным визитом.
Греков прошел за перегородку, на матовом рифленом экране появилась его тень. Шевельнулся и поднялся ему навстречу Всесвятский. В это мгновение в отделе раздался громкий смех.
— Что это они? — поинтересовался Греков.
— Кофту примеряли, — ответил Всесвятский.
— Как это примеряли? — Греков с удивлением взглянул на Всесвятского, не разыгрывает ли тот его, и добавил: — Что ж вы тут сидите в таком случае?
— А куда же мне прикажете деться? — спокойно произнес Всесвятский.
Греков пожал плечами и оглядел кабинет главного экономиста. В простенке между окнами висел рукописный плакат. Греков подошел поближе и прочел: «Не надо обольщать себя неправдой. Это вредно. Это — главный источник нашего бюрократизма. В. И. Ленин, т. 45, стр. 46».