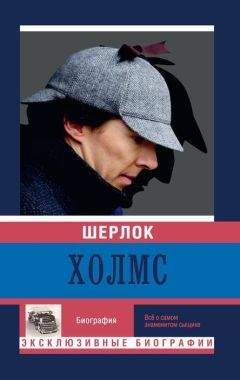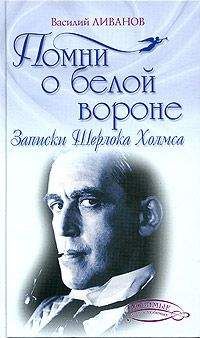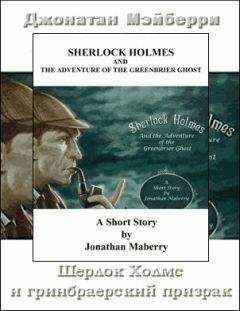Василий Ливанов - Ваш Шерлок Холмс
Вот что такое Юрий Живаго в романе, пока читатель, добравшись до конца книги, вдруг не узнает, что этот самый Юрочка написал вот эти самые стихи.
Но может ли Юрий Живаго, с которым мы знакомимся на протяжении романа, быть автором таких стихов?
Конечно, нет.
Нет, потому что стихи эти, безусловно, могут быть написаны только Борисом Пастернаком. И Пастернак не ставил своей задачей писать от лица Юрия Живаго.
Почему?
Скорее всего потому, что Юрий Живаго — это тот Пастернак, каким автор романа хотел бы себя представить, но каким сам никогда не был… но был убежден, что воображаемый им Пастернак — Юрий Живаго вполне может быть автором стихов реального поэта Бориса Пастернака.
Это волевое вмешательство автора в живую ткань жизни и нешуточные тайны творчества напоминают аналогичные подходы Чаплина в работе над фильмом-мелодрамой «Огни рампы». Гениальному Чаплину, задумавшему образ гениального клоуна Карно, не удается убедить зрителя, что перед ним гениальный человек. И когда ради волевого авторского утверждения гениальности своего персонажа Чаплин отдает Карно исполнить свой чаплинский номер в маске «Чарли», то достигает обратного эффекта: фигура Карно делается в сопоставлении с личностью самого Чаплина-артиста не только не гениальной, но — ничтожной. Подобное же случилось и в отношении Юрия Живаго — поэта, автора пастернаковских стихов.
Проживи Чаплин жизнь Карно — мы никогда бы не знали великого актера Чарли. Проживи Пастернак жизнь Юрия Живаго — и образцом его поэтического творчества явилось бы что-то вроде «Недотроги». В этой несовместимости образа прозаического Юрия Живаго и навязанной ему в авторство пастернаковской поэзии — главная художественная фальшь всей книги.
Борис Ливанов говорил своему другу, что, например, «Рождественская звезда», как явление искусства, по своей талантливости и человечности вбирает в себя весь роман.
И, по-моему, это справедливо.
Запад превознес роман, потому что нужно было превознести — такова была политическая конъюнктура «холодной войны» с Советской Россией. Не надо забывать, что в свое время тот же Запад отверг, объявил клеветниками тех страдальцев, которые вырвались из сталинских застенков и донесли правду о «светлом коммунистическом настоящем» их Родины. И «слепота» Запада тогда произошла тоже по соображениям сугубо политическим, т. е. аморальным. И не успели в сентябре 1958 года присудить Борису Пастернаку Нобелевскую премию, как в декабре этого же года, в авторитетном журнале «Тайм интернейшнл», почти целиком посвященном личности нового лауреата, прозвучал спокойный голос серьезной литературной критики:
«Интерес Запада к „Живаго“ прежде всего интерес политический».
Неизбежно, что книга была использована как оружие в «холодной войне» (восторженные межеумки в России до сих пор не хотят это признать. — В. Л.). Неизбежно, что отказ Москвы разрешить Пастернаку принять Нобелевскую премию и злобные нападки на него со стороны наемных трепачей «фермы животных»[9] («паршивая овца в стаде», «змея», «свинья»)[10] привели к отчуждению от СССР интеллектуалов за пределами России.
В этом же номере журнала предлагается кандидатура для выбора «человека года».
Первым в списке стоит имя Пастернака. Потом следуют Мао Цзэдун, Хрущев, Гувер (нач. ФБР США), президент Пакистана Мухамед Аюб-хан.
То есть Пастернак занесен в список политических деятелей.
С чисто литературной точки зрения «Доктор Живаго» необыкновенный, но не великий роман. Он полон загадочных, невероятных совпадений, забит отвлекающими внимание второстепенными персонажами, бесстыдно мелодраматичен.
За исключением самого доктора Живаго ни один из центральных персонажей не разработан более, чем до состояния абстракции. Даже сам доктор существует скорее как мерцающее представление о нем, нежели являет собой физическое присутствие: о его внешнем виде читателю только и говорят, что он «высокий» и что у него «курносый нос и ничем не примечательное лицо». Что касается структуры романа, то она напоминает бесконечное путешествие на поезде, во время которого читатель, изредка зевая, ждет следующей станции — события в сюжете.
Все познается в сравнении.
Рассматривая «Доктора Живаго», невозможно избежать сопоставлений с талантливой и честной прозой его современников, тех, которым не пришлось «скользить по жизни, ничего после себя не оставляя, ничем не жертвуя». И прежде всего, с беспощадной правдой шолоховского «Тихого Дона», с горько-ироничной «Завистью» Юрия Олеши, со страшными постижениями Андрея Платонова в «Чевенгуре» и «Котловане» и, конечно, Булгакова.
Задержусь на одном, кажущемся мне существенным. Вернее, на его отсутствии. Я имею в виду юмор, который не удалось убить в русской жизни даже в самые мрачные времена и отсутствие которого в романе лишает прозу Пастернака подлинной жизненной силы. В драматических коллизиях пастернаковской прозы, где персонажи с заданными раз и навсегда характерами старательно обслуживают придуманные автором сюжетные схемы и выражают вовсе не свою, а авторскую волю, — отсутствие юмора хотя и обусловленно, но все равно губительно, т. к. оборачивается ложной значительностью и событий, и персонажей, которые в этих событиях участвуют.
Сам Юрий Живаго начисто лишен юмора, и автор не допускает даже тени усмешки в его адрес как со своей, авторской стороны, так и со стороны других персонажей романа.
Парадокс в том, что Юрий Живаго, этот не принимающий «революционной действительности» советский антигерой — христианин, доктор, поэт, — создан по тому же известному литературному шаблону, по которому создавались его противоположности, герои дежурной литературы соцреализма — с раз и навсегда заданными, «несгибаемыми» характерами, ложнозначительные и напыщенные, только в отличие от Живаго — убежденные марксисты, атеисты. И большинство из них тоже достаточно «высокого роста» и с заметно «курносыми носами». И проверка на юмор тоже была для них губительна, так как обнаруживала их полную несостоятельность.
Я возьму на себя риск утверждать, что Юрий Живаго второй половины романа очень уютно почувствовал бы себя в московской пивной в компании Кавалерова и Ивана Бабичева из «Зависти» Юрия Олеши — он им сродни по многим чертам. Но, думаю, долго они бы его не выдержали, хотя не уступают ему ни в презрении к окружающим, ни в самомнении. Живаго не хватает юмора. А окажись пастернаковские «народные» персонажи среди шолоховских или платоновских мужиков, они предстали бы обряженными загримированными актерами, имитирующими речь «под мужика».
Самое сильное свойство творческой индивидуальности Пастернака — его почти физически ощутимая читателем чувственность, благодаря которой «деревья выходят на дорогу», — свойство не только его поэзии, но и прозы («Детство Люверс») было в романе принесено в жертву нарочитой искусственной сухости повествования, очевидно, долженствующей, по замыслу автора, подчеркнуть правдивую «документальность» событий. Эта же сухость должна была уберечь от фальшивых нот при описании людей и обстоятельств, никогда не входивших в круг жизни писателя, не прочувствованных им (партизанские главы и пр.).
Зато в финале читателя должно захватить «половодье чувств» при чтении стихов — таким образом Пастернак хотел достичь гармонического эффекта.
Но алгебра замысла вошла в противоречие с гармонией авторской индивидуальности. Слияния не произошло: умозрительное осталось умозрительным, чувственное — чувственным.
Юрочка Живаго ведет дневник под названием «Игра в людей». Это название автор, мне кажется, мог бы с полным правом вынести в подзаголовок всего романа.
Теперь — об одном персонаже, присутствие которого в романе, будто сговорившись, не замечали в свое время хулители «Доктора Живаго».
Дружно не хотят его замечать и нынешние восхвалители.
Что же это за «таинственный» герой, на заговоре молчания вокруг которого сошлись обе, казалось бы, непримиримые стороны? Причина в том, что этот персонаж пастернаковской прозы сначала смущал хулителей, утверждающих роман антисоветским в смысле отрицательном (контрреволюционном), а теперь мешает восхвалителям преподносить роман антисоветским в смысле положительном (антисталинском).
А так как толкование произведения давно сделалось важнее самого произведения, то можно закрывать глаза на все, что лишает убедительности ту или иную концепцию толкователей.
В романе эта фигура одновременно и второстепенная, и главная. Спрятанная за многослойными благими рассуждениями остальных персонажей обо всем на свете, эта фигура существует, чтобы в указанные автором моменты спасти героя, наладить его дальнейшую жизнь и тем самым продолжить вялое (извините!) течение повествования.