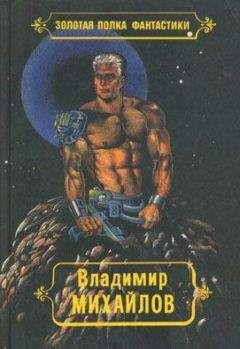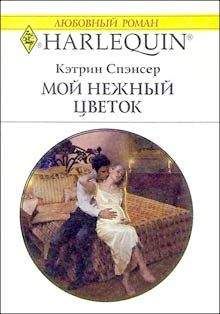Шарль Нодье - Фея Хлебных Крошек
Однако я, кажется, ничего не сказал вам о принятом мною решении. Я решил пуститься в странствие по городам и деревням и предлагать свои услуги повсюду, где требуется перебросить мост через реку или построить дом, а поскольку нужда в этом возникает постоянно, я был уверен, что таким образом, с Божьей помощью, обеспечу себе постоянный заработок. Ведь Бог не помогает только бездельникам.
Больше всего меня огорчало то, что платье мое обветшало и я стеснялся показаться в нем на празднике святого Михаила – не оттого, что сам я придавал такое большое значение внешнему виду, но оттого, что ветхость моей одежды могла навести порядочных людей, удостоивших меня своего уважения, на мысль, что я этого уважения не достоин. Впервые в жизни я понял, что такое общественное мнение и как нуждаются люди в его поддержке; я понял, что удовлетворение собственными поступками, проистекающее прежде всего из подсказок нашей совести, зиждется на суждениях, какие выносят о нас окружающие, и укрепляется ими; я понял – понял, признаюсь, впервые в жизни, – что человек общественный, какой бы безупречной добродетелью он ни обладал, не может обойтись без общественного признания, которое ему необходимо для того, чтобы быть довольным собой, и что тот, кто презирает уважение окружающих, пожалуй, почти вовсе не уважает себя сам. К счастью, я вспомнил, что дядюшка оставил мне свое старое платье, и произвел смотр этим нарядам с такой же радостью, с какой Робинзон осматривал полезные вещи, уцелевшие при кораблекрушении; я был уверен, что лучший из родственников и друзей не упрекнет меня в том, что я прибегнул к этому средству, особенно если узнает от меня – а он всегда верил мне, – в какую крайность я пришел. Среди оставленных дядюшкой вещей отыскались прекрасное чистое белье и платье, пришедшееся мне так впору, словно его сшили специально для меня. Нашел я и два камзола, которые дядюшка не взял с собой; один из них казался совсем новым и был мне удивительно к лицу, но его портил десяток уродливых пуговиц, обшитых грубым сукном, другой же, который я не раз видел на дядюшке и который был скроен на более старинный манер, украшали десять превосходных блестящих перламутровых пуговиц весьма тонкой работы. Я немедля взялся за дело, и вскоре десять пуговиц, белевших, как жемчуг, и сверкавших, как серебро, засияли, словно десять маленьких зеркал, перед моим восхищенным взором.
Но стоило мне прикоснуться к пуговице с другого камзола, как, то ли от спешки, то ли от неловкости, я выронил ее, и она с огромной скоростью покатилась по полу подобно диску, пущенному рукою игрока в сиам[86] или дискобола, а докатившись до очага, продолжала крутиться на одном месте, издавая тот негромкий, но звонкий звук, какой обычно издает золото, и, клянусь вам, крутилась бы так еще очень и очень долго, не останови я ее рукой. Это в самом деле был луидор.
Вы, конечно, уже догадались, что на старом камзоле дядюшки Андре не нашлось ни одной пуговицы, которая не оказалась бы луидором, и, пока я освобождал их от матерчатой оболочки, по щекам моим текли слезы благодарности, вызванные нежной предусмотрительностью моего названого отца, который так кстати припас для меня это вспоможение на случай нежданных превратностей. Ведь я стал обладателем целых двадцати луидоров, иными словами, самой крупной суммы, какой я когда-либо владел, – суммы весьма значительной, раз она смогла принести счастье Фее Хлебных Крошек. Поскольку именно такой суммой исчислялся вклад в наше каботажное предприятие, а предприятие это, требовавшее честности и проворства, хотя и связанное с риском и приключениями, было мне очень по душе, я поспешил предупредить моих товарищей, что смогу войти с ними в долю уже в первом плавании, а первый корабль должен был отплыть через три дня. Именно столько времени требовалось мне, чтобы совершить, по обычаю, ежегодное паломничество к церкви Святого Михаила среди морских опасностей.
Я отправился в путь на заре следующего дня, с сеткой на плече, с палкой, увенчанной крючком, в руках, с двадцатью луидорами в кошельке – богаче, счастливее и бодрее, чем когда бы то ни было.
– Поглядите на Мишеля, – говорили матери, когда я встречал по дороге своих бывших школьных товарищей и обнимал их, – бедняга потерял все свое состояние, хотя в том нет его вины; однако он всегда был трудолюбив, скромен и богобоязнен и пятому ни в чем не нуждается; на нем такая прекрасная сорочка тонкого полотна с мелкими сборками, такой красивый камзол с перламутровыми пуговицами, что кажется, будто нынче утром он собрался вступить в брак перед лицом своего святого покровителя. Где же, скажите на милость, отыскали вы, Мишель, эти восхитительные перламутровые пуговицы, сверкающие, словно звезды?…
Я, краснея, отвечал, что обязан всем доброте дядюшки Андре, которая одна только и спасла меня от нищеты. Нищета, однако, не заставила бы меня краснеть, ведь мне не в чем было себя упрекнуть.
Улов серцевидок оказался так велик, что я не мог понять, как может он уместиться в моей сетке, хотя шире и глубже ее не было ни у кого в наших краях. А ведь я раздал по меньшей мере в три раза больше сердцевидок, чем лежало в ней теперь, беднягам, которые в тот день переворошили все побережье, не найдя ни единой раковинки. Это навело меня на мысль, что Провидение мне покровительствует и что святой Михаил благосклонно примет те молитвы, какие я намеревался вознести за моего отца и дядю и за Фею Хлебных Крошек – моих единственных земных заступников. Поэтому, после того как другие ловцы сердцевидок распродали свой улов, я угостил паломников частью моего, отдав за приправу те несколько мелких монеток, какие у меня еще оставались, но не тронув двадцати луидоров, которым я приискал употребление еще до того, как отправился в путь.
Глава девятая,
рассказывающая о том, как Мишель выловил из песка фею, и о том, как он обручился
Я возвращался с горы Сен-Мишель в самом веселом расположении духа, распевая балладу, которой гранвильских мальчишек научила не кто иная, как Фея Хлебных Крошек:
Это я, это я, это я,
Это я – мандрагора,
Дочь зари, для тебя я спою очень скоро;
Я невеста твоя!
Время от времени я бросал взор на песчаный залив, над которым так величаво возвышается базальтовая пирамида горы Сен-Мишель. Был один из тех опасных дней, когда песок, делаясь более подвижным и более алчным, чем обычно, пожирает всякого неосторожного путника, который осмеливается идти вперед, не прощупав предварительно почву под ногами. Песок, как говорят в наших краях, затягивал несчастных, и колокол на горе уже дважды или трижды извещал о беде похоронным звоном. Внезапно я услыхал крики: «На помощь!» – и увидел в песке странное тело, которое не было похоже на человеческое, но, однако же, притягивало взор своей белизной и, казалось, боролось со стихией, выказывая совершенно непостижимую стойкость, Я бросился па помощь, но не успел я швырнуть несчастному созданию песочную веревку, которую мы всегда носим с собой, как оно, не переставая стонать, скрылось из моих глаз и песок, клубясь в огромной воронке, поглотил его. Судите сами, какое отчаяние охватило меня, тем более что мне показалось, будто напоследок с уст несчастной жертвы сорвалось мое имя. Я поспешил погрузить в песок палку для ловли сердцевидок, надеясь подцепить существо, увязшее в песке, за край одежды, и с невыразимой радостью почувствовал, что железный крюк, венчающий палку, уткнулся во что-то твердое и прочное, так что у меня появилась надежда вытащить на поверхность неведомое существо, молившее меня о помощи. Изо всех сил, сударь, я боролся против Харибды, не желавшей отдавать добычу, и был несказанно удивлен, когда, дотащив мой драгоценный груз до полоски твердого песка, которая, как нарочно, располагалась совсем рядом, узнал в спасенном мною существе Фею Хлебных Крошек: она дышала, она была жива, мой гарпун очень удачно зацепился за один из ее длинных зубов, и это помогло мне выудить ее из песка. «Черт возьми, – подумал я, – пожалуй. Фея Хлебных Крошек была далеко не так неправа, как мне казалось, когда сохранила эти два ужасных клыка, оскорблявшие мой детский взор; сегодняшнее происшествие лишний раз доказывает, что осторожность и скромность – вещи куда более полезные, чем красота». Мысль эта вкупе с видом Феи Хлебных Крошек, которая, поднявшись с песка, принялась весело притопывать своими маленькими ножками и припрыгивать, словно забавные куколки на девичьих роялях, привела меня в такой восторг, что я не смог удержаться и громко расхохотался. Самое удивительное, что, сделав два прыжка и два пируэта, Фея Хлебных Крошек стряхнула со своего кукольного наряда, который я вам уже описывал прежде и который украсил бы витрину самой роскошной игрушечной лавки, всю грязь и пыль.
– По правде говоря, Фея Хлебных Крошек, – воскликнул я, продолжая смеяться, поскольку она продолжала приплясывать, – никто лучше вас не сумел бы устранить любой непорядок в одежде, и самые элегантные из наших модных торговок могли бы вам позавидовать, ибо, к моему великому счастью, вы выглядите нынче еще более нарядной и изящной, чем в ту пору, когда признались мне в любви. Но осмелюсь ли я спросить вас, Фея Хлебных Крошек, волею каких удивительных обстоятельств госпожа стольких владений, соблаговолившая украсить своим сельским домиком стены жалкого арсенала графства Ренфру, увязает в песке близ горы Сен-Мишель, меж тем как все ее друзья уверены, что она находится в Гриноке?