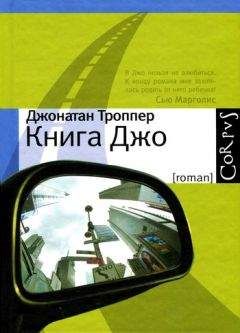Альберт Пиньоль - В пьянящей тишине
Однако никаких опасений или страха у меня не было. Довольно скоро выяснилось, что я мог рассчитывать на его верность. Было ли это следствием врождённого благородства или той атмосферы первозданности, которую создавал остров, но мне казалось, что он неспособен на предательство. Батис жил будущим — невзирая на то, что слово „будущее“ означало лишь завтрашний день, — и никогда не думал о прошлом. Когда я появился на маяке, он принял это как данность. Моё присутствие перечеркнуло историю наших прежних отношений, низостей, упрёков и шантажа.
Я жил в условиях чрезвычайного положения и потому был готов терпеть любые неудобства во имя выживания. Меня не волновали серьёзные различия в наших характерах: я принимал его таким, каков он был. Но, как это часто происходит в браке, именно мелкие штрихи вызывают страшные драмы. Например, он был практически лишён чувства юмора. Батис смеялся только в одиночку и не разделял со мной минуты смеха. Когда я шутил или рассказывал ему простенькие анекдоты, Кафф смотрел на меня потерянным взглядом, словно сам отдавал себе отчёт в каком-то своём внутреннем изъяне, который не позволял ему понять шутку.
Однажды утром, когда падали редкие капли дождя и одновременно светило яркое солнце, я читал книгу Фрезера, которая, по словам Батиса, являлась собственностью маяка. Это, вероятно, означало, что её забыл кто-то из строителей. Я читал невнимательно, глаза мои слипались, когда Батис прошёл мимо меня. Он смеялся, нагнув голову, тщетно стараясь сдержаться. Я не мог понять, хотел ли он рассказать мне что-то или просто проходил мимо. Кафф смеялся и смеялся, повторяя конец какой-то истории или анекдота:
— …Он не был содомитом, а всего лишь итальянцем.
Пещерный смех возобновлялся сам собой.
— Он не был содомитом, а всего лишь итальянцем, — повторял Батис, поднимаясь по лестнице. Он смеялся и снова произносил концовку этого неизвестного мне рассказа.
Позже я услышал его смех ещё один раз, но тут надо рассказать предысторию этого события. Однажды после бурного ночного штурма я устроился на своём матрасе. Рассветало. Я уже совсем было уснул, когда странный шум заставил меня подняться с постели. Сначала послышались стоны животины. Он бил её? Нет. Шумные вздохи Батиса вскоре заглушили звуки, которые она издавала. Я не мог поверить своим ушам и даже подумал, что страдаю звуковой галлюцинацией. Но нет, это происходило наяву. Это действительно были стоны, но стоны сладострастия. Там, наверху, кровать ритмично сотрясалась — и вместе с ней пол верхнего этажа. С досок на меня сыпались мелкие опилки, словно внутри маяка шёл снег. Округлые стены маяка усиливали звуки, они отдавались эхом, и моё воображение, отказывающееся поверить в возможность происходящего, рисовало мне картину их совокупления. Оно продлилось час или два, пока крещендо вскриков и движений не разрешилось полной тишиной.
Как он мог трахаться с одним из тех самых чудищ, которые осаждали нас каждую ночь? Какой путь прошло его сознание, чтобы обойти все препятствия природы и цивилизации? Это было хуже каннибализма, который иногда можно понять в отчаянной ситуации. Но сексуальная невоздержанность Батиса была достойна клинического обследования.
Естественно, хорошее воспитание и тактичность не позволяли мне обсуждать с ним его склонность к зоофилии. Однако для него было совершенно очевидным, что я всё знал, и если он не затрагивал эту тему, то исключительно от лени, отнюдь не от стыдливости. Но однажды Батис сам в разговоре затронул этот вопрос. Моё замечание было продиктовано исключительно клиническим интересом:
— А диспареунией она не страдает?
— Что это ещё за диспареуния?
— Диспареуния — это боль при половом сношении.
В это время мы обедали за столом на его этаже, и он так и замер с открытым ртом, не донеся до него ложку. Он не смог доесть свою тарелку похлёбки и так хохотал, что я стал опасаться, не свихнёт ли он себе нижнюю челюсть. Хохот поднимался из его желудка, груди и живота. Он шлёпал себя по бёдрам и чуть не падал с табуретки. Слёзы выступали у него на глазах, он на минуту приостанавливался, чтобы их вытереть, и снова хохотал. Он смеялся и смеялся; потом начал было чистить ружьё, но не мог остановиться. Он хохотал до самого захода солнца, пока ночь не вынудила нас сосредоточить внимание на обороне.
Зато в другой раз, когда случайно в разговоре речь зашла о животине и я спросил, почему он наряжает её в этот нелепый наряд огородного пугала, в этот грязный, потерявший форму и обтрёпанный свитер, его ответ был лаконичным и чётким:
— Ради благопристойности.
Вот таков он был, этот человек.
7
11 января.
Один японский философ писал, что лишь немногим людям дана способность ценить военное искусство. Батис Кафф был именно таким человеком. По ночам он воюет, а днём предаётся любви. Трудно сказать, какое из этих двух занятий возбуждает его сильнее. В ящиках моего багажа он обнаружил пару волчьих капканов. Страшные железные острия, как челюсти акулы. Батис очень обрадовался и поставил капканы на расстоянии точного выстрела. Парочка чудищ попалась в ловушки, и он убил их меткими выстрелами — если следовать его собственному совету беречь боеприпасы, эти патроны тратить не стоило. Утром он пошёл к капканам, движимый невысказанным желанием заполучить какой-нибудь трофей. Однако чудища, бешено пожиравшие любой кусок мяса, утащили с собой трупы и заодно прихватили капканы. Это его очень раздосадовало.
13 января.
Развивая мысли Мусаши:[7] доблесть воина определяется не тем делом, за которое он борется, а тем уроком, который он способен извлечь для себя из борьбы. К несчастью, этот афоризм на маяке теряет всякий смысл.
15 января.
В первые ночные часы небо необычайно чистое. Волшебное зрелище: звёзды на небосклоне и звездопад. Я расчувствовался до слёз. Мысли о широте, на которой находится остров, и о карте звёздного неба. Мы находимся так далеко от Европы, что созвездия занимают необычные положения и я не могу их различить. Но надо признать, что никакого беспорядка в этом нет; положение кажется нам беспорядочным только тогда, когда мы не способны воспринять незнакомые нам порядки и положения. Мироздание не знает беспорядка, он существует лишь в нашем сознании.
16 января.
Ничего. Никакого штурма.
17 января.
Ничего.
18 января.
Ничего, решительно ничего. Куда они запропастились?
19 января — 25 января.
Лето южных широт робко потухает, но в этой робости есть своё величие. Сегодня я видел бабочку. Здесь, на маяке. Она порхала туда-сюда, безразличная к нашим страданиям. Кафф попытался было прибить её своей лапищей, но сделал это с присущим ему безразличием. Это было бы настоящим преступлением, потому что наступали холода, и нам, наверное, не доведётся увидеть больше ни одной бабочки. Но вступать в разговоры на подобные темы с таким человеком нет смысла.
К этим мыслям примешивались и другие: не столь философские и гораздо более тревожные. Летом ночи коротки, но сейчас на нас со всей неизбежностью надвигается зима, а значит, и темнота. Чудища всегда нападают в ночи, и штурм с каждым днём длится всё дольше. Что с нами будет, когда солнце скроется на двадцать часов или даже больше?
26 января.
Размеры острова так незначительны, что взгляд, падая без конца на одни и те же предметы, кажется, точит даже камни. Мы рассматриваем окрестности маяка, как некую обширную область. У каждого уголка своё название, мы окрестили каждое дерево, каждый камень. Ветка необычной формы сразу же получает имя. Таким образом, расстояния приобретают новые качества. Если бы кто-нибудь услышал наш разговор, то подумал бы, что мы говорим о каких-то далёких местах, между тем любой предмет находится здесь в двух шагах от тебя.
Время тоже превращается в некое относительное понятие. Капелька росы, повисшая на паутинке, может дрожать там целую вечность, пока не упадёт, а иногда стоит только моргнуть — и пролетела целая неделя.
27 января.
Своеобразная акустика маяка передаёт мне все эротические звуки. Обычно Батис выбирает самый конец ночи, когда я ухожу с балкона и с его этажа, чтобы начать свой сеанс. Это занятие может занимать у него два, три или даже четыре часа. Его стоны раздаются с точностью метронома. Они напоминают хрипы человека, умирающего от жажды и идущего по пустыне: монотонная агония. Иногда мне кажется, что он способен выдерживать этот ритм часами.
Любопытно отметить полиоргазмию животины. Я могу следить за её постоянным возбуждением: спазмы учащаются, а потом наслаждение достигает высшей точки. Каждые полторы минуты, не больше, напряжение разряжается извержением вулкана вскриков и долгих, очень долгих стонов. Эта кульминация длится целых двадцать секунд, а потом, вместо того чтобы сойти на нет, всё повторяется снова. Батис, равнодушный к её состоянию, не меняет своего ритма, пока наконец напряжение не разряжается под какое-нибудь крепкое словцо.