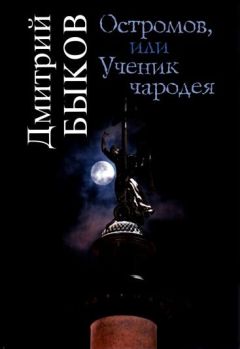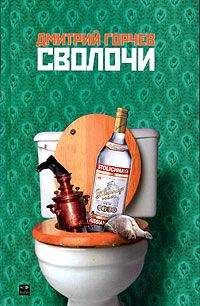Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Они проговорили до часу, несколько раз желая друг другу спокойной ночи и вновь возобновляя разговор. Выпито было бессчетное количество чашек крепкого чаю — дома чай почти не пили, предпочитали отвары местных трав, — рассмотрено и отвергнуто множество вариантов устройства даниной судьбы, подробно обсужден выбор факультета и шансы — дневной, разумеется, при его происхождении не предполагался, хотя рискнуть стоило, каждый год на экзаменах ожидали послаблений; ничего, вечерний не хуже, он найдет работу — например, в «Красной газете», где у Алексея Алексеевича были приятели, или в крайнем случае через Ноговицына. Ничего, не пропадет, Алексею Алексеевичу все представлялось легким, и Дане легко было в его присутствии.
Особенно хорошо с ним было потому, что он любил мать больше, чем отца, родного, казалось бы, брата, — и похож странным образом был на нее: та же легкость выдумки, та же беспричинная радость, ведь так неблагодарно бывает вечно требовать и ворчать. И это довольство малым — не от страха, но от сознания, что бывает хуже, особенно с нами, которым так многое дано.
Даня чуть не расчувствовался, но держал себя в руках, как надлежит мужчине.
Впрочем, Алексей Алексеевич был не чета отцу и не требовал мужественной сдержанности. Напротив, он всячески поощрял Даню к рассказам о матери, о Кириенко, о Судаке, о даниной ритмической теории («Знаешь, чрезвычайно любопытно, немного в духе эвритмизма, если ты слышал»), о журнале, который Даня с матерью рисовал для малолетнего Валечки, о Жене и даже о странном попутчике. «Ты сейчас и не таких оригиналов навидаешься. Откуда только повылезли. И вот что я тебе скажу: надо, казалось бы, радоваться. Но я радоваться не могу, потому что при военном коммунизме была какая-то холодная прелесть, как после эфира, Боже тебя упаси пробовать. А сейчас все это как будто гроб повапленный, все ненастоящее, словно ожили после смерти. И среди этого ходят люди, очень умеющие поживиться. Главный тип — я сказал бы, главтип, — стал сегодня авантюрист». Даня захохотал: ему представился Главтип, где выпускают типов, одних отвергают за недостаточную типичность, другим придумывают для типичности пару любимых словечек, матросское или солдатское прошлое, штемпелюют лоб — и пошел гулять по улицам и страницам. «Ты не смейся. Я устал, что все ужасное вытесняется мерзким. В четырнадцатом было плохо, но по-человечески. В восемнадцатом еще хуже, но как-то сверхчеловечески. Сейчас плохо бесчеловечески, и что самое странное, Даня, я чувствую, что будет и нечеловечески».
Они долго перебирали факультеты. Сам собою предполагался филологический, но на него отбор был особенно жесток, словно к книгам можно было теперь допускать только безграмотных — остальным они не нужны, и так начитались. Что же, может быть, история? Но история принадлежит теперь ее хозяевам, жертвам знать ее не положено — пусть считывают по шрамам на собственной шкуре. К математике душа не лежала вовсе, физика привлекала только чудесами радио, которые тут же перестанут быть чудесами, если их поймешь. География? — зачем она теперь, когда никуда не уедешь? Теперь и география стала экономическая, из всего ушел праздник. Вместо голых туземцев, беспечных Паганелей, шипастых тропических плодов были сплошные ресурсы, передел мира на последней стадии, спрутообразные тресты, оплетающие континент за континентом. От этого неудержимо клонило в сон. Юриспруденция и прочее крючкотворство были отвергнуты с порога. Счастье, что открылся психологический факультет, куда и отправляли всех, кто не определился с пристрастием: видимо, за пять лет обучения студент должен был понять наконец, чего ему хочется, и сосредоточиться на любимом предмете… да поздно, второе образование запрещено! Так в конце жизни понимаешь наконец, что надо было делать, — но рассказать об этом не успеваешь уже никому. Что ж, психология даже лучше филологии — Даню давно интересовал феномен детства, он много думал о прапамяти и легко восстанавливал в уме первый год собственной жизни; те впечатления были слишком сильны, конечно, чтобы их помнить как следует, — их могла выдержать только младенческая душа, теперешнюю они бы разорвали, — но причины нынешних радостей и страхов он отыскивал в младенчестве легко, не прибегая к снам или рассказам родителей. Все было живо, стоило убрать барьер и погрузиться в мир невыносимых страстей и величайших открытий.
— Так что, психология?
— Начнем все же с филологии, и если не выйдет…
— Вечернее отделение ничуть не хуже. Работу найдем, а после первого курса…
— Дядечка, я готов работать и после первого.
Тут в замке завозился ключ, а в коридоре послышалось шуршанье и бурчанье Поленова. Он был возбужден, ему не терпелось рассказать о масоне, но он был связан клятвой. Ничего, приятно бывает и намекнуть.
— Да-с, Алексей Алексеевич, — приговаривал он, — бывают еще такие люди, что… Я вижу, у вас свет: так я по-соседски. Бывают еще люди действия и непрестанного работающего ума, умеющие с первого взгляда все понять про первого встречного…
Алексей Алексеевич не стал расспрашивать Поленова, что за люди и где он их взял. Поленов был в трансе, и для чего же будить страдальца? Недели через две сам расскажет. Все лучше, чем мрачная сосредоточенность; глядишь, и выберется. В Поленове после странного знакомства проснулась деликатность, и он, покашляв, словно самому себе намекая, что пора и честь знать, отправился спать. Наконец улеглись — дядя на диване, Даня на матрасе в его комнате, прямо под многоэтажными книжными полками, но к этому времени он дободрствовался до полусна.
Это было лучшее состояние, но болезненное; мысли, приходящие в такое время, могли быть целительны и плодотворны, а могли завести в черный тупик, из которого долго придется пятиться. Правду говорил попутчик: в дороге душа беззащитна. Сейчас она словно вышла в открытое пространство, на котором многое видно, но увидеть можно и такое, после чего не уснешь, а то и жить не захочешь. Даня про себя называл это чувство за-бодрствованием и легко в него входил, поклевав носом, а потом заставив себя очнуться; иногда после этого являлись лучшие стихи, но чаще — особенно изощренные кошмары. Поскольку весь день он особенно много думал о матери, пытаясь смотреть на город ее глазами, то и теперь мысль его сосредоточилась на ней, вышла из-под спуда и устремилась к тому главному, без чего он больше всего тосковал. Мать была не просто мать — в ней была его связь со всем, что он любил, через нее пришло все главное, и ему не терпелось рассказать ей все, уложив наконец в единственно правильные слова. Они встречались, представлялось ему, в какой-то лечебнице вроде той, куда она попала однажды в двадцать первом году по ходатайству друзей «со связями»: все, что они смогли сделать проездом из Москвы в Ялту, остановившись в Судаке, — это выдать рекомендацию в новооткрывшуюся санаторию, куда отправляли теперь исключительно пролетариев, но для матери, у которой подозревали туберкулез, нашли на две недели отдельную комнату; это была единственная ее просьба — чтобы ни с кем, иначе все лечение даром. Лечебница была в Мисхоре, в бывшей санатории Дубина, и даже персонал собрался тот же самый, а Дубин получил охранную грамоту. По слухам, он пользовал самого Цюрупу, подбирая ему свои знаменитые травные отвары. Мать их называла тварными отравами, но пила. Даня приезжал к ней, она старалась отдать ему обед, он отказывался, смешно боролись, наконец поделили жалкую хлебную котлетку.
Теперь она будто была в лечебнице вроде прежней, и он приезжал навещать. У них было очень мало времени, надо было успеть все сказать, но говорить было нечего, потому что миры их были теперь разные, и происходящее в одном ничего не значило для другого. Надо было успеть насмотреться, напитаться друг другом, и Даня изо всех сил старался сделать вид, что все хорошо. Мать тоже доказывала, что все хорошо, но он чувствовал, что ей там не лучше, а то и хуже, чем ему, и начал уже роптать, потому что ей, столько перетерпевшей здесь, не может быть плохо там, иначе он знать не хочет никакого Бога; однако оказывалось, что и Бог может не все, и все, включая директора лечебницы, трепещут перед каким-то другим, более высоким начальством, каким-то местным Цюрупой, который пьет их отвары, но миловать не спешит. Самое же главное состояло в том, что у матери там было очень много работы и не самые приятные соседи, но почему-то ее призвали именно к этой работе и именно в этом соседстве, больше некому. Ей надо было охранять какой-то ответственный участок, и она страшно уставала на этой работе, ничего себе отдых и лечение, — но после важного задания должны были перевести наконец в более приятное место. Она изо всех сил старалась сделать вид, что не утомлена, и эта их жалкая, взаимная святая ложь была всего невыносимей. Наконец ему надо было уходить, — он хотел остаться, но не мог, и чувствовал, что ему тоже предстоит еще сделать нечто, и что от этого зависит ее пребывание там. То есть не только они влияют, но, оказывается, и мы. На прощание она ему сказала, наморщив лоб, как часто в последнее время, когда забывала прежние слова (удивительно, каким это было общим признаком — все путались, теряли часть памяти, ненужной в сократившемся мире): да, вот еще что… когда почувствуешь, что не можешь доехать до места, — пожалуйста, не удивляйся. Это я еще как-нибудь смогу. Хорошо, сказал он, не удивлюсь. Да, да, сказала она; это я смогу.