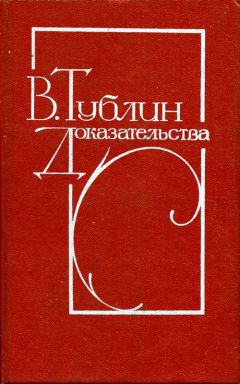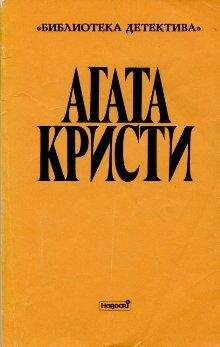Валентин Тублин - Золотые яблоки Гесперид
Мой третий разряд, хотя он и не был липовым, стоил немного. Но достаточно, чтобы я мог понять, как играет этот морячок. Он мог играть со мной, как говорится, одной левой. Я не понял даже, как это произошло, но буквально после первых же ходов мне стало ужасно неудобно – я говорю про позицию, которая создалась на доске. Это как если бы вас заставили натянуть на себя детский костюмчик, номеров на десять меньше вашего. Тут жмет, там тянет, и ни пошевелиться, ни вздохнуть. Абсолютно то же самое получилось и с моей позицией. Еще все фигуры были на доске, все до единой, еще и игра, собственно говоря, не началась, а ходить мне уже было некуда. Так что, хочешь не хочешь, пришлось сначала отдать ему одну пешку, потом другую, а потом и фигуру. Нет, он и в самом деле понимал в шахматах. Потому что я ему сказал – может, еще одну? Сгоряча. Ведь, может быть, подумал я, это произошло случайно. Ведь могло и так быть, мало ли, я не разобрался, ведь третий-то разряд у меня все-таки был. Короче, мне просто стало обидно, что я так бездарно проиграл, поэтому я и предложил ему еще одну партию. Я даже начал по-другому. На этот раз я играл белыми, и какое-то преимущество это давало.
Да, теоретически. Только на практике оказалось совсем не так. На практике все совершенно повторилось. К десятому ходу мне буквально было некуда ходить, так что на этот раз мне даже и жертвовать ему ничего не пришлось, я и без того понял, что партия проиграна. Вот тогда-то я и спросил его, какой у него разряд. Но он не сказал. Он, видите ли, оказался не только гордым, но еще и скромным. Я у него еще раз пятьсот, наверное, спрашивал, какой у него разряд, а он и ухом не ведет. Ужасно я тогда расстроился. Он, похоже, до того тогда заждался на площадке, что рад был играть даже со мной. Только я не стал с ним больше играть. Поблагодарил и ушел.
А через час он сам позвонил. Я открываю. Он, вижу, совсем унылый. Но держится.
– Извините, – говорит. – Но у меня кончается увольнительная.
И замолчал. У него такая манера была, скажет что-нибудь – и молчит, то ли соображает, что ему дальше говорить, то ли дает вам время, чтобы вы переварили его слова.
Я тут говорю:
– Жаль.
Мне и действительно было его жалко, в общем-то, он не виноват, что я так плохо играю. Я уже на него не сердился. Даже готов был с ним еще сыграть, если бы он захотел.
– Да, – говорю, – жаль.
А он:
– И вообще, – говорит, – мы уезжаем. В лагеря. Мне, – говорит, – очень приятно было с вами познакомиться. Только, – говорит, – вы не торопитесь в дебюте. Не старайтесь сразу выиграть. Играйте, – говорит, – повнимательней.
Тут он снова замолчал.
– И вот еще что, – говорит. – А впрочем, нет…
– Что, – говорю, – нет? А он:
– Да так. Все в порядке. Ну, до свидания.
И пошел. А я вслед:
– А Кате, – кричу, – Кате-то что передать?! А он:
– Ничего. – Так и сказал: – Ничего. Ничего не надо.
И пошел.
Вот такой морячок. Я его даже зауважал после этого, честное слово. Мне нравятся сдержанные люди. Если бы я мог, я был бы жутко сдержанным. Как индейцы у Фенимора Купера. Помните? Их пытают, а они хоть бы что. Совершенно и абсолютно сдержанны. Но я, увы, не такой. Я очень эмоциональный. Совершенно не сдержан. Даже не знаю, почему. Это, конечно, ни к черту не годится, но я пока что совершенно не могу придумать, что мне с этим делать.
Да, вот такая история вышла с Катиным морячком. Уж он-то собой владел, ничего не скажешь. Может быть, даже слишком. Видите – не захотел даже ничего передать…
Катя тогда вернулась, как обычно, едва не в двенадцать. Я сначала не понимал, чем там можно заниматься, на этой ее гребной базе, в такое позднее время. «Спят они там, что ли?» – так я думал. Только так всегда, пока не знаешь толком. Пока ты не имеешь представления о деле – тогда-то тебе и приходят в голову всякие мысли, а стоит узнать самому или познакомиться поближе – и видишь: все в порядке. Я узнал это сам. У них там по две тренировки в день. Одна – общефизическая, днем, а другая, вечером – на воде. Жуткое дело. Километров по десять – пятнадцать гребут, а то и больше. Вокруг Елагина острова и Аптекарского в придачу. А то и на Большую Неву выходят. Или на взморье. Я сам ходил с ними однажды на руле, правда, недолго. Мы прошли в тот раз от гребной базы вверх до Каменноостровского моста, спустились к ЦПКиО и по Крестовке вернулись обратно. Так просто, чтобы размяться.
Здорово они гребут, черти. Никогда не скажешь, что девчонки. Захват резкий, и через воду тянут, как сумасшедшие, я себе, сидя на руле, полспины отбил. Да, чемпионы Европы, а девчонки – и всё, на улице даже не заметишь. С косичками. Самой старшей – девятнадцать лет. Нет, правда, – здорово гребут. Когда тренировка кончается, от них прямо пар идет. Соль на майках выступает, правда. Но тренировка – это еще не все. Это только одна часть дела. Я долго распространяться не буду, только одно скажу, для примера. Они весла свои, наверное, часа по два вытирают, не говоря уже о лодке. Они ее только что не вылизывают. Вообще-то говоря, в этом – в том, чтобы самим с тряпками часами возиться, – никакой надобности нет, это мог бы сделать любой мальчишка из новичков. Да еще и рад был бы. Но они не позволяют. Никому не позволяют делать что-нибудь за себя. А потом я понял, что и это не совсем точно. Они не просто никому вместо себя не позволяют делать, но главное – они себе этого не позволяют. Не позволяют себе перекладывать грязную работу на других, хотя они и чемпионы и после тренировки едва на ногах стоят. И никто в этом клубе себе этого не позволяет – так уже, похоже, повелось с незапамятных времен, никто – даже олимпийские чемпионы. Да, это я не оговорился – именно олимпийские чемпионы: у нас их целых шесть человек, всех времен, начиная с Олимпийских игр в Хельсинки. Я еще не родился, а в нашем клубе уже был олимпийский чемпион. Нет, правда, у нас отличный гребной клуб. Так вот, должен сказать, что именно они, эти олимпийские чемпионы, прежде других не позволяют ничего за себя делать. Для начала вы их просто не отличите от других, разве что будете знать, что они держатся тише, чем другие. Это даже странным казалось мне первое время, клянусь. Вы ведь знаете, обычно все как раз наоборот: если у кого есть чем похвастаться, того хлебом не корми – дай привесить что-нибудь на грудь. Да я и сам такой – был, во всяком случае, до недавней поры. Я свой третий разряд по шахматам только что к подушке не привинчивал, честное слово. А здесь все наоборот – чем больше у человека всяких титулов, тем тише он себя ведет. Тем скромнее, я бы сказал. И в майках они ходят таких, что только на свалке такие увидишь. Дыра на дыре. Это у них, как талисман, для счастья. И никогда не задаются. Можешь спокойно подойти к какому-нибудь олимпийскому чемпиону, например, к Коршунову, и спросить, нет ли тавота подмазать вертлюг, или кожицы на весло, или еще чего. И он будет с тобой говорить, будто это не он олимпийский чемпион, а ты сам. Клянусь. Вот за что мне и нравится наш клуб.
Да, такой надо еще поискать. И в этом самом клубе наша Катя в первый же год стала чемпионкой Европы. Не она одна, конечно, как вы понимаете – вся их четверка – четверка распашная, так это называется официально, и ясно, что тут надо работать и работать, и неудивительно, что каждый раз она возвращалась к двенадцати. Возвращалась чуть живая, клянусь. Она просто сама не своя до гребли, я такого еще не видел, да и все остальные – чистые фанатики. Если бы не тренер их, Августина Николаевна, они бы месяцами не вылезали из своей четверки, так бы и жили там.
Так что теперь понятно, что этот морячок никогда бы не смог ее дождаться. Для этого ему пришлось бы напрочь уволиться со службы и стеречь ее. Каждый день до двенадцати. Или самому заняться академической греблей. Только и это вряд ли помогло бы ему. Потому что в «академии» нет смешанных команд, как, например, в теннисе. Так что и это не помогло бы. Безнадежное дело.
Вот я и говорю Кате, когда она пришла:
– Жалко, – говорю, – что ты не пришла хоть на час раньше.
А она:
– Ну, – говорит. Я уже рассказывал, что это у нее на все случаи жизни.
А я говорю:
– Не «ну», а просто жаль человека.
И рассказываю ей всю эту историю. Так, говорю, и так. С начала и до самого конца, до того момента, как морячок ушел. Но без всяких подробностей. И тут я увидел, как может измениться человек. То есть на глазах. То есть у нее прямо кровь отлила от лица, побледнела и так и ест меня глазами, и даже злость какая-то у нее в голосе, будто я в чем-то виноват.
– Ну, – говорит, – а что он передать хотел? А? Что хотел передать?
– Ничего, – говорю.
– Быть не может.
Вы поняли? Это она мне говорит – «не может быть». Меня это так удивило, что я даже и не возмутился. То есть я возмутился, но удивление мое было во много раз больше. Она с ним, что ли, играла в шахматы? Или, скажем, разговаривала! «Не может быть». Но я сдержался.