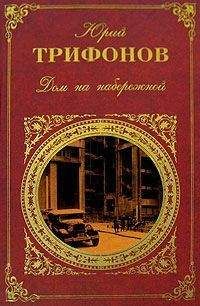Лев Копелев - И сотворил себе кумира...
Тарас объяснял, что куркуль — это поганое слово, придуманное босяками, лодырями из комнезама.[11]
— Ленин говорил: «Даешь культурных хозяев!» — хотел, чтоб селянин был культурным. Мой батько был в червоной армии, героем был, с пулемета стрелял, ранетый сколько раз, а потом стал культурный хозяин. Вот у него и молотарка и сепаратор, и сеет не на три поля, а как по культуре надо — на семь полей. Ну, а комнезамы против культурных селян. Вот и дразнятся «куркуль». Ленин был за селян, за Украину. А комнезамы и Троцкий за городских, за москалей…
Тарас рассказывал, когда батько услышал, что Ленин умер, то сел вон там на бревнах в углу двора, и целый день плакал и ни до кого не говорил.
Отец Тараса был угрюмо суров: висячие серые усы, красно-бурые, клешнистые руки. Однажды за какие-то грехи Тараски он ухватил его за волосы и стал хлестать кнутовищем так яростно, что тот, взвизгнув разок: «Ой, тату, не буду,» — потом лишь надрывно орал на одной нескончаемой пронзительной ноте. Отброшенный коротким злым пинком, он забился под веранду и долго тоненько всхлипывал: «Вси кости перетрощив…»
Я дрожал от ужаса и жалости и хотел немедленно бежать в милицию. Но Тараска обреченно шептал, хлюпая носом: «Не смий, його вся милиция боится. Вин може всих поубивать, вин як Махно…»
И этот грозный человек, бесстрашный и беспощадный, как те запорожцы и гайдамаки, о которых я читал у Гоголя, Шевченко и Сенкевича, плакал, когда умер Ленин. Он говорил моему отцу, с которым иногда советовался, называя «гражданин агроном» и стараясь произносить слова по-русски:
— Як бы Ленин был живой, он бы дав нам настоящую волю хозяйствовать. Он понимал и уважал сельского хозяина. А эти, як их там, цыковы-рыковы, что они понимают? Троцкий тоже до нас неласковый. Он городской, военный. Конечно, там на фронтах он был герой, главком. Это я добре знаю, сам воевал и в Петрограде, и на Перекопе, и аж в Сибири. Но теперь эти цыковы-рыковы уже и Троцкого наладили, сами царевать хочут. Значит будет разруха и в селе и в войске. А без села и без войска держава не стоит. Тут английцы и французы, и японцы и поляки нас голыми руками поберут.
Потом отец несколько раз пересказывал своим приятелям этот разговор как пример народной мудрости. Он вспомнил о мрачных предсказаниях нашего дачевледельца, когда в газетах было опубликовано ироническое письмо Бернарда Шоу советскому правительству и злой рифмованный ответ Демьяна Бедного, который называл Шоу «вяленой воблой» и восклицал: «До какой же ты подлости довялена!» Я, разумеется, был целиком на стороне Демьяна, почитаемого мною автора «Главной улицы». Наша группа выучила эту поэму наизусть и декламировала ее на разные голоса со школьной сцены и в день годовщины Октября, и в день Парижской Коммуны, и 1-го Мая, и в первую годовщину смерти Ленина. Правда, я не принадлежал к тем энтузиастам, которые считали это самыми лучшими из всех стихов, когда либо написанных. Я соглашался, что стихи у Демьяна Бедного, возможно, лучше, чем у Пушкина и Жуковского, — ведь те были аристократы, — но у Лермонтова и особенно у Некрасова, пожалуй, не хуже получалось.
В ту зиму я в первый раз в жизни попал в оперу, слушал «Демона», после чего то и дело распевал «не плачь, дитя, не плачь напрасно» и «будешь ты царицей мира», а в литературных спорах отражал оппонентов сокрушительным аргументом, что стихи, которые стали оперой, несомненно значительнее таких, которые остаются только стихами. «Сказка о царе Салтане» и «Евгений Онегин» восстановили в моем сознании пошатнувшийся было авторитет Пушкина.
Но Демьян Бедный, даже уступая авторам оперных стихов, был неизмеримо выше какого-то нахального англичанина. Несколько книжек Шоу, оказавшихся в отцовском шкафу, были заполнены малопонятными пьесами и многословно скучными статьями. А союзник Шоу — отец Тараса, был куркулем, и я уже знал, что это кличка сельских буржуев. Но моя защита Демьяна Бедного, обличения дарницкого Шевченко и далекого Бернарда Шоу закончились тем, что отец надавал мне пощечин: «Болван! идиот! Повторяешь, как попка, газетную брехню! Попка-дурак! Не смей читать эти вонючие газеты!»
Мать заступилась, как всегда с воплями и слезами: «Ой, ты убьешь ребенка! Чего ты от него хочешь, ведь его этому учат!»
— Ах, этому их в школе учат! Так я тебя лучше в сапожники отдам!
4.Осенью 24-го года я перешел в пятую группу в другую школу — в «Единую трудовую школу № 6»; она помещалась в здании бывшей реальной гимназии, напротив маленького сквера, где тогда еще стояла белая статуя княгини Ольги и по обе ее стороны такие же белые изваяния монашек и монахов.
В отличие от немноголюдной школы Лещинской, где всем заправляли директор и учителя, — это называлось «старорежимный прижим», — новая школа была огромной, многолюдной и привольной. Одних пятых групп было четыре («а», «б», «в», «г»). Я попал в группу «б», которая, разумеется, оказалась лучшей в школе, самой дружной, самой сознательной и, конечно, именно в ней были самые боевые пацаны.
Директор школы товарищ Маркман до революции был сапожником. Он говорил невнятно, картаво и певуче. Поэтому выступал редко и немногословно.
— Ну вот, издесь все в общем и целом сказали пхавильно. Значит, надо, чтобы сообща, как следуит, учеба по-ленински, значит. И чтоб дисциплина и успехи. И на отлично, значит. И учком тоже должен, значит, обеспечить дисциплину и учебу. И чтоб учителям не ставить палки в колеса, значит. Никакая демагогия, никакая па-ахтизанщина, никакой хулиганизм нельзя допускать. Нам хабочий класс и советская власть создают какие условия! Значит, единая тху-удовая школа. Учебные пособия. Помещение. Вот буфет для питания, высшее качество. Мастехские имеем. Учком, свое самоупхавление. Значит, даешь учебу. Сейчас надо уже не даешь Вахшаву, а даешь учебу. Это, значит, надо понимать, надо иметь сознательность школьническая, ну, школьная, такая, то есть всеобщая сознательность по заветам Ильича, значит, даешь учеба на отлично…
Настоящим хозяином школы был завуч Николай Иванович Юдин, оставшийся еще от реальной гимназии. Он преподавал физику в старших группах. А его жена, сухонькая, тонкогубая француженка, преподавала географию с тех пор, как отменили уроки французского.
Когда «проходили» Египет, она рассказывала, как Наполеон, воодушевляя своих солдат, говорил о том, что «сорок веков смотрят на нас с высоты этих пирамид». И потом обязательно спрашивала: «А ты помнишь, что сказаль император Наполеон о пирамидах?» и «Почему это сказаль император Наполеон?» — и сладенько улыбаясь, кивала, когда отвечали правильно. Я ответил урок сносно, однако на вопрос о Наполеоне возразил:
— А зачем это нужно повторять, что сказал какой-то император? Он был угнетатель народа, эксплуататор, контрреволюционер и ни при чем к географии.
Маленькое остренькое личико учительницы покраснело, румянец был влажный, гневный.
— Ты говоришь глюпость. Император Наполеон был великий гений.
— Он был злой гений, и никакой не великий, а контрреволюционер, белогвардеец, он французскую революцию в крови утопил.
— Это неправда, это глюпий ложь. Ты глюпий, дерзкий мальчишка. Уходи из кляса.
— За что уходи, я урок знаю.
— Уходи из кляс, я буду тебе ставить неуд.
— Ах, так! Значит, неуд за то, что я не признаю вашего Наполеона, да еще из класса уходи. У нас тут не старорежимный класс, а группа, советская школа. И нам не надо никакого Наполеона, никакой контрреволюции.
— Уходи из кляс, сейшас уходи, немедленно! Ты есть дебошир, ты есть анаршист…
Теперь она уже кричала, стуча по столу маленьким кулачком, и в пискливом голосе дрожали слезы. А я чувствовал себя все сильней и азартно наглел.
— Ладно, я уйду! Но не один. Ребята, кто против старого режима, давай за мной. Пусть она тут остается со своим Наполеоном.
Почти все пацаны и даже кое-кто из девочек с веселым гудением ринулись к двери. Урок был сорван. Меня в тот же день вызвали на учком, пришли Маркман и Николай Иванович, был долгий спор, за меня заступался представитель шестых групп Филя Фиалков, а председатель учкома Толя Грановский, — он был уже комсомольцем, носил кожаную куртку и огромную кепку, — назвал меня идиотом с партизанскими ухватками, за что я возненавидел его на всю жизнь. Но и сам себе не признавался в этом, так как чтил его величие, когда он так уверенно, угрюмо председательствовал на собраниях и хриповато, надсадно ораторствовал, призывая к сознательности, к смычке с деревней, ко всеобщему вступлению в ряды МОПРа или общества «Друг детей».
Учком вынес мне выговор за срыв урока, но отметил и неправильную политическую линию преподавательницы. Вскоре после этого собрания меня выбрали в учком и я стал членом редколлегии общешкольной газеты «Ленинская искра». Кроме того, как пионер, я участвовал и в сборах пионерского «форпоста». Стенгазетой заправляли девочки из 7-го класса — Инна Антипова и Таня Юрченко; Инна — светлорусая, стриженая, писала стихи, поражавшие меня великолепием составных слов: «динамит-кличи», «энерго-взлеты», «победо-май». Таня была рослой, крепкой физкультурницей, с каштановой косичкой и чуть раскосыми темными глазами.