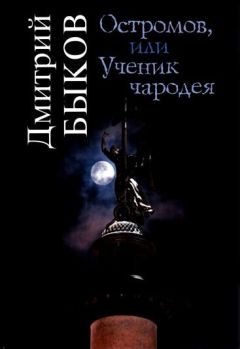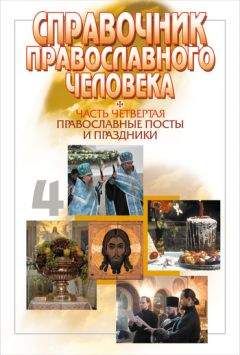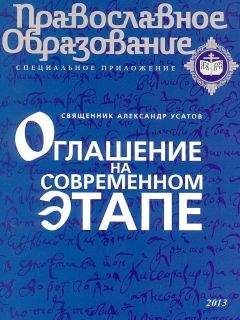Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Даня молчал.
— А себе вы как объясняете? — спросил шепоток слева. — Должна же быть какая-то причина. Почему они хотят, чтобы мы признались? Они же сами за нас все могут там написать.
Даня подумал, что если бы стены были гладкие, экстериоризация бы удалась. Но они были шероховатые, в виде так называемой бетонной «шубы», и этим почему-то угнетали особенно. Почему здесь устроили эту «шубу»? Вероятно, чтобы не удавалась экстериоризация. Решительно все у них было учтено.
— А я знаю, почему, — продолжал голосок чуть слышно. — Я знаю.
Даня по-прежнему не поощрял его к откровенности; однако ему стало любопытно.
— Дело в том, — сказал голосок и пресекся. — Дело в том, что это делает нас виноватыми. Ведь им нужны виноватые. С невиновными они дела иметь не могут.
Даня улыбнулся. Это смутно напоминало слова — чьи же? Университетского экзаменатора, фамилию он забыл, как большинство подробностей той жизни. Сначала сделать всех виноватыми, раздать кресты — несите! — как бы из милости. А потом заставить работать, выдав это за почетное право. Что ж, логично. Работай из благодарности за то, что не убили. Пятнадцать лет назад заставляли пахать за гроши и против всех правил, чтобы работа никак не могла быть в радость, — а сопротивляющихся пугали ссылкой или предательством классовой борьбы. Теперь гальванический удар усиливался: работай, пока жив. Жизнь — какого еще вознаграждения? Особенно жизнь, чудом не отнятая…
— Виноватыми, — продолжал голос, — мы становимся в ту секунду, когда оговариваем себя. Ведь это само по себе преступление, которое на весах Божьих будет весить не меньше любого вредительства. И только когда они склонят нас к этому преступленью, их душеньки довольны. После этого человека можно топтать как угодно.
— А если не оговорим? — задал Даня кретовский вопрос.
— Оговори-им, — уверенно повторил сосед справа. — Кто не ломался, тех плохо ломали.
Интересно, подумал Даня, как это будет. Но как это будет — он предположить не мог, ибо чародей на известном этапе ничего не решает сам.
7На следующее утро — времени он не чувствовал давно и не нуждался в нем, но раздали хлеб и кипяток, — его вызвал на допрос некто Капитонов.
Тут примечательно то, что Капитонов числился утонувшим, а на деле погиб при несколько иных обстоятельствах, которые вот-вот прояснятся. Однако уполномоченный Капитонов никуда не исчез. Еще два раза его убили в перестрелках, да еще раз он спьяну простыл, заснув весной на скамейке, но оставался, как прежде, живехонек. «Капитонов» был псевдоним, по-русски Голованов. Почему он укоренился — теперь уж не скажешь: может, раз все переулки называли в честь каких-нибудь бывших товарищей, то вот и оперативный псевдоним взяли в честь какого-то реального лица; но в органах вообще редко пользовались подлинными фамилиями. Все же понимали, что когда-нибудь дойдет и до них — появится изумленный потомок и спросит: как же ты мог? и главное, зачем? А что я? Я стоял и подводил клемму, или подбрасывал дрова, — вот все, что я делал; иногда, конечно, заставлял дрова признаться, что они виноваты, но это просто чтоб веселей горело. Но на всякий случай никто из них под своей фамилией не работал, и это сохранилось по сию пору: одних Петровых было больше, чем во всем остальном Ленинграде. Кто был в действительности тот Капитонов — это уж мы никогда теперь не поймем.
Даню в наручниках подняли на пятый этаж. В коридоре, буднично устланном красным паласом, ему встретился человек в форме, судя по всему — начальство немелкого ранга, в лице которого, однако, мелькнуло смутно знакомое. У Дани вообще была неважная память на лица, но это квадратное лицо он знал, такое не забывается. Фамилия мелькнула смутно, но тут же всплыла. Это был Роденс, никакого сомнения. Даня видел его единственный раз, на собрании, когда он заявил учителю, что хочет убивать коммунистов. Значит, провокатор. Впрочем, это не имело теперь никакого значения.
Между тем никаким провокатором Роденс не был. Если кто хочет убивать — неважно кого, важно само желание, — рано или поздно он непременно попадет туда, где убивают. Он был на отличном счету и делал карьеру. Что до желания убивать коммунистов, их к его услугам было теперь полно.
В желтом казенном кабинете с желтым казенным графином, сейфом и дубовым столом Даню в наручниках усадили на тяжелый стул и оставили Капитонову.
Нынешний Капитонов был рослый, розовый, мелкоглазый, молодой — старые кадры были уже к тридцать девятому большей частью перемолоты, — и ориентированный уже, как почти все они, лишь на один вид следственной работы: выбивание.
— Фамилия имя отчество, — сказал он себе под нос.
Даня представился.
— Год рождения адрес место работы.
Все это было ему изложено.
— Состояли ли под судом и следствием.
Ему ответили.
— Знач, так, — сказал он буднично. — Показаниями ваших товарищей по контрреволюционной организации «Великая ложа Астреи» вы совершенно изобличаетесь в подготовке заговора, организации убийств вождей партии и правительства, террористических актов на производстве и антисоветской пропаганде. Запирательство бессмысленно, признание облегчит. Будем говорить?
— О чем? — спросил Даня.
Капитонов встал перед ним, расставив ноги, и заглянул в лицо с невыразимым презрением.
— Галицкий, — сказал он, — мы тут таких, как ты, раскалываем в два дня. Но лучше тебе до этого не доводить.
Даня молчал, глядя на Капитонова снизу вверх. Ему в самом деле было очень интересно. Да, пожалуй, если бы все это случилось с ним в двадцать пятом, он бы никогда не полетел и не освоил многого еще другого; но теперь было поздно.
— Говорить будем, Галицкий? — спросил Капитонов. Ему года двадцать два, подумал Даня.
— Спрашивайте, — ответил он.
— Чего спрашивать? — передразнил Капитонов. — У меня на тебя показаний — во. — Он кивнул на папку «Дело». — Если я грю «изобличаетесь», это значит, изобличаетесь. Рассказывай, и, может, жив будешь. А нет — как знаешь, я предупредил.
Даня смотрел на него со странным выражением, которое Капитонову не нравилось. Самому Дане оно не нравилось тоже, ибо он чувствовал, что нечто в нем принимается думать и решать самостоятельно. Он вырастил в себе это нечто, с его помощью левитировал и посещал эоны, и теперь оно было глубочайшим образом оскорблено тоном этого разговора и обстановкой кабинета. Он почувствовал, что еще немного — и он не сможет сдерживать эту внутреннюю сущность, которую всегда в себе сознавал, но в последние годы натренировал почти до всемогущества — разумеется, в земных пределах. Сам Даня Галицкий готов был терпеть многое, но это — в нем — не было готово. С таким же выражением — остановитесь, или потом не смогу остановиться я — смотрела на сильного самца Мокеева пишбарышня Ирочка, но сильные самцы никогда не могут затормозить.
— Вам не надо бы этого, — тихо сказал Даня.
— Чего?! — прикрикнул Капитонов, не веря ушам.
— Вот этого вам не надо бы, — еще тише сказал Даня, чувствуя, как воля его слабеет и как набирает мощь притаившаяся в нем буря. Эта буря ждала долго, он ни разу еще не использовал ее.
— А?! — заорал Капитонов. — Ты кому?!
И он замахнулся, потому что с самого начала понимал, что с этим иначе не получится, его надо будет ломать по полной. Но, замахнувшись, он застыл, странно вытаращив глаза, потому что ощутил внезапно сумасшедшую легкость, полную бестелесность — он не чувствовал даже собственной занесенной руки.
— Вы неправильно делаете, — сказал Даня, точнее, что-то в Дане. И, не сводя глаз с Капитонова, он начал делать правильно.
Человеку, никогда не прибегавшему к раскатке, трудно объяснить, что это такое. Имаго, проходящее эту стадию, переступает последний порог, отделяющий его от конечного превращения. Но поскольку имаго — сущность тонкая, процесс имеет вид не столько нападательный и даже не защитительный, но скорее, так сказать, познавательный: оказавшись лицом к лицу с наглым врагом, имаго смотрит, что у него внутри. Оно (он, она) до последнего старается отдалить процесс, ибо после него пути назад нет. Но ведь Капитонов, как бы он ни назывался, никогда ничего не понимает. И тогда начинается послойное считывание, в результате которого остается — да, да, та самая лужа, а в середине ее виновато морщатся никому не нужные сапоги.
Вы как вы что это прекратить, считывал Даня. Он разлагал Капитонова стремительно, сдирая слои клеток, и краем сознания успевал отметить: вы нас колете в два дня, мы вас раскатываем в четыре минуты. Он прекрасно знал, что делать, но знал теоретически. Сила, скрытая в нем, вырвалась теперь наружу. Она ничего не желала знать, ничего не боялась и не жалела. Капитонов стоял с отведенной назад рукой и быстро переставал быть Капитоновым. Бедная Лидочка Поленова, увидеть такое в двадцать лет. Вместо лица было уже месиво, но Капитонов не чувствовал боли. Собственно, и не было уже никакого Капитонова.