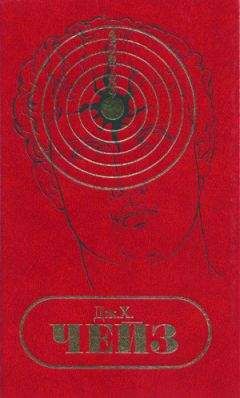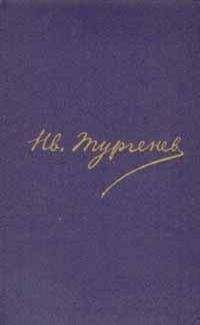Виктор Астафьев - Последний поклон (повесть в рассказах)
Ни войны тебе, ни тревоги. Тишина. Чистый снег. Таежный простор. Топаю я по левому, гористому берегу Енисея к Зыряновым на Манский мыс и ничего не боюсь. Река стала, успокоилась, но еще дымятся полыньи и дышат окна, по льду не проложена еще зимняя дорога в город. Однако тропка из Овсянки на известковый завод уже протопана — это оторви-головы, гробовозы, наладили через реку первопуток[204], ходят с шестами под мышкой, щупают меж торосов и где прыгают через щели и дыры, где боязливо семенят, где бегом рвут, где и ползком. Житье возле реки, да еще если она в скалах, рискованное.
Я посидел возле Караульного быка, под навесом которого дымилась драным лоскутом полынья, черная в глуби и с неуверенной голубой рябью поверху. Сосульки с камней свисают — билась-колотилась об эти камни река, не желая покориться, брызгалась, ломала хрупкий лед, выплескивалась на отвесы камней и слой на слой стелила воду, и вода хрустела битым стеклом, стеклышко по стеклышку, звенышко по звенышку со звоном катилась вниз, обратно в реку, и все теснее становилось реке, гуще и покорней делалась в ней вода, усмирялось ее буйство, замирало течение, загоняло его под лед, спекало, запечатывало. Какая долгая, какая упорная и вечная борьба!
Тоскливо покружился надо мной и над лохматой пустынной рекой соколок, пронзительно вскрикнул и исчез в скалах. Почему он не улетел? Что его здесь задержало? И что тянет меня неудержимо спуститься с обрыва на ровную заберегу с уже пробитой во льду мелкой прорубью, не отмеченной еще пихтовыми лапами, пойти по нервно петляющей тропке через реку? Меня, на казенном харче взросшего, и этот неверный лед выдержит. Меж припаем забереги и узластым швом прикипелой к ней шуги кинуто дна осиновых кола с сопревшей черемуховой перевязью. По ним к заречным девкам на подсобное хозяйство и на известковый завод переходили, побеждая страх, овсянские кавалеры, и среди них наш Кеша — он уж не отстанет! Не сегодня завтра овсянские жители будут бить пешнями и топорами зимнюю дорогу в Собакино и дальше в город. Пойдут между острых, еще не обточенных ветрами торосов деревенские кони, медленно пойдут, опасливо косясь сосредоточенным глазом на уже стеклянно сверкающие окна, обходя их семенящими ногами. Попав на заберегу, чуть покрытую еще и не снегом даже, а мелким белым порошком изморози, фыркнут кони с облегчением и зацокают подковами в приятном, вольном беге.
Я переборол соблазн, прошел родную деревню, покорно уходящую в зиму. Миновав горной тропою Караульный бык, спустился на ровную, по трещинам ветвисто расписанную заберегу и, то катясь, то споро топая, оставляя свой первый след на равнине, шуровал себе на Манский мыс, и плелась в моей голове легкая дума о том о сем, и глупая, нелепая песня про заберегу радовала мое сердце, морозец бодростью разливался по всему телу. Ни о чем я не думал, никого не сторожился, потому что кругом чисто, светло, надежный лед под ногами и все родное, с малолетства известное глазу. Я иду к Зыряновым, к тете Мане и дяде Мише, «помогать». Если они меня не приветят — поверну назад, вон моя деревня, вон мой дом родной, ниточка-тропинка к ней петляет меж гулких торосов, глыбы льда, тяжко вздыбленные на середине реки, на стрежевом теченье, сверкают студеными громадами. Но коли потребуется, поборю страх и пройду меж них, пусть даже ночью, пройду.
С сеновала по лестнице скатились две собаки — рыжая опрятная сучонка и черный, весь засаженный сенной трухой кобель. Сучонка тявкала и одновременно выкусывала что-то из шерсти, кобель пер навстречу, клубя белую пыль, и за хвостом его оборванными проводами тащилась мятая солома.
— Tы сперва глаза продери, задницу почисти, потом уж жри людей! — сказал я кобелю.
Он озадаченно смолк, лишь перекатывал рык по чреву своему. Сучонка все тявкала и пошевеливала хвостом: дескать, это я так, для хозяев больше стараюсь, но тебе рада и кусаться не буду. Я дал обнюхать собакам свои ботинки, и они поволоклись за мной в ограду, кобель попробовал было поиграть с подружкой, но она показала ему зубы и вежливо проводила меня к однооконной хибарке, сколоченной из плавника[205], горбылей и всякого-разного деревянного старья.
«Мастерская», — догадался я. Пристроенная к стайке, она бойко выбрасывала в узкую трубочку черный смоляной дым. В мастерской ширкал рубанок. В окошко я увидел склоненную над верстаком фигуру, споро снующую руками. Человек, облаченный в длинный фартук, словно бы месил сдобное тесто. Я открыл дверь и, вдохнув запах стружек, по возможности беспечно сказал:
— Здорово ночевали!
— Здорово, здорово, добрый молодец! — поприветствовал меня дядя Миша и, обтерев руку о нагрудник фартука, давнул мои пальцы, я почувствовал окаменелые мозольки столяра. — Экой столб вымахал! — оглядывая меня снизу вверх и сверху вниз, сказал дядя Миша. — Когда и успел? — Услышав за стенкой движение, он постучал в дерево и крикнул: — Маня, к нам гость пожаловал!
— А-а! — откликнулась тетя Маня. — Вихтор, что ли? — И, не дожидаясь ответа, пошла в избушку, перекосившись одним плечом от полного ведра.
Я посидел на порожке мастерской и с удивлением обнаружил, что дядя Миша сооружает гроб. Я поежился и скорее взялся за приборку, вспоминая, как эту радостную работу охотно исполнял когда-то в домотдыховской мастерской. Какое удовольствие сметать в кучу чистые стружки, собирать гладкие обрезки, щепки, кубики в корзину и вдыхать, вдыхать пьянящий запах, скипидарно щекочущий ноздри, слышать, как руки липнут к смоле, каплями выступившей из дерева, словно бы в последний раз оплакивающего свою гибель: хоть в гробу, хоть в шкафу иль в табуретке погибнуть — дереву все больно.
— Не забыл? — улыбнулся дядя Миша в разглаженные, опилками и стружками засоренные усы. — А я вот домовину делаю. Да не себе. Себе еще успею. Летом, сам знаешь, работы прорва, по дереву соскучился, этот товар, — похлопал он по почти уж сшитому гробу, — всегда на мне был. Кресты, домовины — мой досуг, ремесло мое. Много народу вокруг под ними покоится. И твоя мамка, и Илья Евграфович, и Митрей… Э-эх, хоть этим памятен буду. Чего долго не приходил-то? Ну не оправдывайся, не оправдывайся. Захотел — пришел бы, значит, не хотел. А счас самый раз. Завтра заездки смотреть будем. Неделю стоят.
Слушая говорок дяди Миши, видя, как он колдует над верстаком, поколачивает, постругивает, подпиливает, я вспомнил, как бабушка по-за глаза хвалила Зырянова: «Михайла — добытчик! Мимо дома копейку не пронесет!.. — И с деревенской прямотой лепила ему в глаза: — Вертухай ты, вертухай. Чё ты по свету вертишься? Чего и ково ишшешь? Копейка завсегда у тебя под ногами лежит, нагнись и возьми! Не-эт, тебе копейки мало, тебе штоб рубель стружками кружился. Червяк тебя точит! Точит ведь, точит! И грыжа тебя донимат, кровяной напор в тебе нестойкай оттого, что рыло не крестишь, в любое время, в любой день, даже в пасхальный сочельник скоромное лопашь, и не думашь о том, что за этот грех земля тебя не примет…» — «На небо вознесусь. Там мягче!» — ухмылялся дядя Миша, делая вид, что все ему нипочем, был он и остается главным средь людей. Но иногда — понимал, видать, что не главнее он бабушки, — запоясывался, хлопал рукавицей об рукавицу: «Ну и родню мне черт послал!..» — бахал дверью и подолгу у нас не появлялся. «На руку — золото человек, сердцем — чужой и чижолай. Вся наша родова — вертопрахи, если и пошумит, то как лист в лесу, ну, окромя самово, конешно, об том што говорить? Я токо и могу его вынести. Друга бы давно уж с утесу вниз головой — штоб уж сразу. А этот нe нашей веры, поди-ка? Ох, Марея, Марея! Я ли ей не говорила, я ль ее не упреждала…»