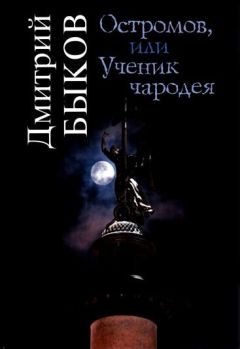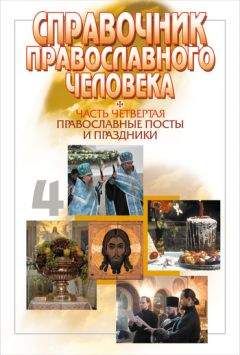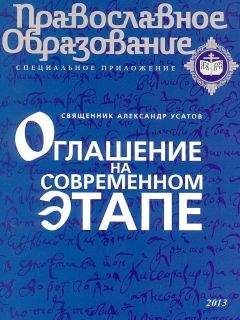Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Эта мысль наполнила его вдруг таким золотистым покоем, словно защитный купол простерся над ним: есть, есть сила, устраивающая все, как бы оно само ни расположилось. Мысли его после предельного напряжения спутались. Топор, катализатор, топоризатор. Благо тебе, Остромов. Он повернулся к стене и мягко влетел в сон. Снился ему их счастливый кружок, собравшийся, как для гимназической фотографии. Савельева улыбалась, Дробинин декламировал, Левыкин записывал. А кто это одесную учителя? А это я, ничего не умеющий, кроме летать. И над всеми южным сиянием переливалась Супра — пятое время года; где все мы вместе, там и она с нами.
Часть пятая
СУПРА
Глава двадцать третья
Мы напомним сейчас, что происходило вокруг, хотя над разъяснением этих дел бились многие умы, честно пытавшиеся смотреть на вещи с человеческой точки зрения.
Истина же заключалась в том, что, по точному слову Михаила Алексеевича, давно уже лежавшего на Волковом кладбище под кустом любимой сирени, к 1915 году вся развесистая конструкция, называвшаяся Россия, с ее самодержавной властью, темным народом, гигантским пространством и огромным разрывом между всеми без исключения классами, словно разбросанными на этом пространстве, подобно огонькам в ночи, — была нежизнеспособна, то есть мертва.
Мертвы были разговоры о ценностях и смыслах, мертвы реформы и контрреформы, мертвенно холодна была зима и мертвенно жарко лето, мертвы были пустоши и города, дворцы и трущобы, мертва была словесность, из тончайшего слоя которой высосали все соки; мертвы были солдаты, не хотевшие умирать ни за что, и генералы, не умевшие воевать; мертва была история, пять раз прошедшая один и тот же круг и смертельно уставшая от себя самой; мертвы были слова, ничего больше не значившие, и люди, ничего больше не понимавшие; мертвы были те, кто это понимал, и те, кто с этим еще не смирился. Ведь только что все еще было, и цвел на обтянутых скулах чахоточный румянец, многими принимавшийся за свежий цвет второй юности, — но от пяти таких кругов разваливалась и не такая карусель. Были, впрочем, те, кто хотел гальванизировать этот труп и заставить его пройти еще один круг — в самой сжатой и стремительной форме повторив все то, чем он обычно сопровождался: революцию с кратким периодом вертикальных перемещений, оцепенение с установлением монархии, краткий косметический ремонт с введением умеренных свобод и окончательное впадение в старческое безумие. Трупу дали сильнейший шоковый, токовый удар, и труп пошел.
Все песни его были песнями трупа, а беды и победы — горестями и радостями червей в трупе. На всем, что он делал, лежал мертвенный свет, и любимыми его героями в самом деле были павшие бойцы. Больше всего труп любил увековечивать мертвых — живым в нем было неуютно. Иногда он уставал, останавливался, кренился, — но ему давали новый разряд: так тебе! Как всякий труп, он расцветал и оживал только от новых смертей, и то ненадолго: миллион от голоду, миллион высланных, миллион выселенных!
И труп ходил.
Пять миллионов мертвецов были сорваны с мест и строили для него заводы, шесть миллионов срывали горы и выплавляли сталь, семь миллионов охраняли кладбищенский порядок и стояли под ружьем, все они мерли без числа в болотах, тайге, пустынях, угрожали друг другу и охраняли друг друга, а когда движение их замедлялось — трупу давали новый удар, и удары требовалось усиливать, так что число жертв росло неуклонно, — но, мертвые, они не замечали собственной смерти, а многие оправдывали ее.
И труп ходил.
Когда собственных сил для его гальванизации стало не хватать, его искусно втравили в новую войну, старательно вырастив достойного врага, и враг этот дал трупу такой удар, какого не выдержал бы никто из живых, — но мертвец выдержал и завалил, задушил врага миллионами трупов, и сорок лет питался памятью об этой победе; лучшие были истреблены, первое поколение живых вырублено под корень…
Но труп ходил.
Он ходил до тех пор, пока не начал гнить заживо, пока не стал распадаться, теряя пальцы, руки, окраины; пока не разложился, как месмеризированный покойник, спасенный гипнотическим сном накануне смерти и превратившийся в мясную лужу при пробуждении. Семьдесят лет ходил он по кругу, в гротескном и страшном виде повторяя его стадии, пока не рухнул и не растекся по всему бесконечному пространству, распустив над ним облако зловония. И никакой свободы не было в том, что он упал, — ибо страшен живой злодей, но хуже мертвый.
И вот мы сидим в этом трупе и ждем, что будет. Никаким током нельзя собрать воедино мясную лужу, никаким страхом нельзя сжать в единый кулак мясную жижу. Благо тем, кто успел убежать наружу. Среди тех, кто остался, живых не вижу.
Может быть, дети. Может быть, только дети.
И Даниил Ильич любил мальчика Лешу Кретова, поселившегося в их квартире вместе с одинокой изможденной матерью в тридцать первом безвоздушном году.
2Даниил Ильич к этому году уже не чувствовал времени, ибо с удивительной легкостью добился того, чему учил трактат о пяти ступенях духовного совершенства. Четыре первых дались ему сразу, поскольку две он прошел еще в детстве, о чем не знал, а еще две освоил после известных событий. Но пятая — убрать время — никак не поддавалась, и только к двадцати пяти годам он достиг успеха.
Сложность была в том, что практические рекомендации отсутствовали начисто. Говорилось просто: засим надо убрать время, — и все. За разъяснениями Даня обратился к другим сочинениям Мортимера Ливерпульского, оставившего, оказывается, десятка два регулярно переиздававшихся трактатов на разные случаи жизни — от «Обоснования метода», в котором ничего не понял сам Фрэнсис Бэкон, до «Пятнадцати способов шлифовки стекла», о котором высоко отозвался Ломоносов; Даня уже прилично читал по-английски, но ни в одном из опусов Мортимера, доступных в Публичке и даже частью переводившихся на русский, не нашел сколько-нибудь ясного указания. У Тирдата Ясного с присущей ему ясностью говорилось нечто о способах сокращения и растягивания времени с помощью дыхательной гимнастики, — и Даня дышал, но это приводило лишь к головокружению. Два раза, почти против его воли, в разгар дыхательных практик Тирдата случилась экстериоризация — душа просилась вон от этих назойливых и бессмысленных потуг.
Даня прибегал к медитации по нескольким методам сразу — воображал, как учил Остромов, путешествие огненной точки из одного мозгового полушария в другое, пытался, по методу Грэма, вообразить себя мухой и даже атомом, просачивался в щели, стремительно проносился по второму эону, обозревая с непонятной, запредельной высоты простую и чудесную карту античного мира, — но вход в третий и прочие эоны был закрыт наглухо, поскольку время никак не убиралось. Определить, почему оно никуда не девается, было сложно, но Даня чувствовал его тем участком мозга, который не отключался даже во время самой удачной левитации, уносившей его, бывало, в седьмые небеса, оказавшиеся, по пословице, очень приятными, но совершенно пустыми. Уходить туда хорошо было в жару, однако и там он чувствовал течение секунд, и каждая, проходя сквозь тело, как пуля, вырывала частицу жизни, уносила в никуда.
Время он чувствовал двояко, что и отражено в двусмысленности самого этого слова: есть смысл физический, есть газетный, и одно никак не убиралось без другого. Даже в левитации, поглощенный небывалыми ощущениями, он помнил, что в городе чистят и ссылают, в мире орут и маршируют, и тень небывалой глупости и злодейства наползает на всех. У него, одного на тысячу, был выход, но выход, как назло, был перекрыт. После вечеров, проводимых в Публичке, он выходил шатаясь, с безумными, отчаянными глазами. Однажды его встретил и узнал Барцев, к тому времени известный детский поэт, успевший съездить в короткую ссылку в Орел и вернуться в Детгиз. Бубуины назывались теперь долгарями, понимая искусство как долг и как дело долгое.
— А вы что тут? — спросил Барцев.
— Я? — рассеянно ответил Даня. — Я учусь убирать время.
— Как именно? — заинтересовался он.
— По большей части молча, — сказал Даня уже с раздражением. Барцев был ему никто, а лез с расспросами. Вообще люди раздражали его все сильней.
Эту фразу — «Вбегает мертвый господин и молча удаляет время» — Барцев записал тем же вечером, но использовал лишь через год.
Но как ключом к левитации оказалось когда-то подростковое, многословное проклятье (стыдно было вспоминать его — как детские грезы о разврате), здесь оказалось нужно перерубить совсем другой канатик — крепкое, живучее чувство вины. Именно оно накрепко увязано с чувством времени — отсюда убийственная мысль о том, что уже пять часов дня, а мы не встали (хотя в постели были заняты единственно осмысленным делом — мечтанием, сном), страшное воспоминание о том, что уже пятнадцать лет, а ничего не сделано для славы, и вовсе уж сомнительное соображение о вине перед эпохой, которая вона на дворе, а я тут в норе. Даня полгода бился над разными способами убрать время, но вместо этого лишь убивал его, причем его всякий раз забрызгивало, а оно всякий раз воскресало. Проблема снялась, когда, отвлекаясь от многословного трактата Григория Сковороды о том, что есть мир, Даня решил прийти в себя и открыл газету «Вечерний Ленинград». Там он прочел рецензию на новую редакцию «Веры Народной» — Соболевский не дремал и чуть не каждый год обновлял свою «Чайку». Рецензент Хрумин восторженно хвалил реставрированный спектакль Госдрамы. В этой версии, сочиненной режиссером с одобрения Деденева, матрос Шкондя был уже не прежний герой, а сомнительный революционный анархист, и Вера Народная сдавала в Чека обоих — и белогвардейского мужа, и слишком красного братишечку. Спекулянтка Зося исчезла из пьесы вовсе — Фанни Кручинина играла теперь в Москве, у Таирова.