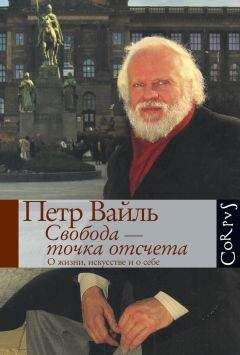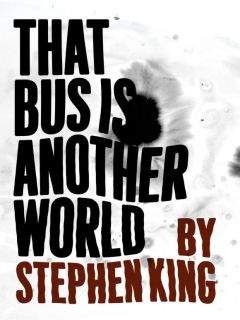Петр Вайль - Гений места
Критиковали обстоятельный, временами тяжеловатый юмор: «За всю жизнь я не изувечил ни одного овцевода и не считал это необходимым. Как-то я повстречал одного, он ехал верхом и читал латинскую грамматику — так я его пальцем не тронул». Между тем, многословный юмор — истинно народен. Вообще, многословность — исконная жизненная категория, это знает каждый, кто слышал, как простые люди рассказывают анекдоты и происшествия: «А вот еще с одним было…» Такие истории всегда длинны — жаль расставаться с сюжетом, с общественным вниманием, с ролью звезды. Рассказчик путается в деталях и забывает соль, завершая мычанием и бормотанием: «Да, ну вот так оно было, значит…» Сколько я слышал такого в казарме, на рабочем дворе кожгалантерейного комбината, в стекольном цеху стройуправления, в комнате отдыха пожарной охраны — на всех своих неинтеллигентных службах, где помалкивал, вслушиваясь в чудовищные по занудству и захватывающие по правдивости истории — такие, какой была жизнь.
Впрочем, О. Генри почти всегда блистательно афористичен и легко распадается на цитаты: «У вас на ранчо будет пение, а вы его не услышите», «Он был слаб, как вегетарианская кошка», «Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное оскорбление», «Рот такой формы и таких размеров, что взгляд невольно искал над ним надпись: „Для писем“, „Ростом она была примерно с ангела“, „Рыжая борода, похожая на коврик для вытирания ног, только без надписи „Добро пожаловать“, «Он был свеж, как молодой редис, и незатейлив, как грабли“.
Его проза потрафляет читателю, как довлатовская: она достаточно проста, чтобы не испытывать затруднений, и достаточно изысканна, чтобы переживать удовольствие от понимания. Внятный повествовательный голос, доверительные обращения к читателю, живой диалог, красочные метафоры, гиперболы, обильные аллюзии. И — краткость, которую он в конце жизни переживал как ущербность: «Я хочу заняться чем-то большим. То, что я сделал, — детская забава перед тем, что я могу, что во мне есть». Чеховский (довлатовский тоже) комплекс отсутствия большой формы. О. Генри в этих муках шел против своей выдающейся максимы: «Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу». Его дорога привела в Нью-Йорк, а тот не располагал к романам: журнальный сюжет должен быть прочитан в подземке.
Это масскульт. Масскультом были театр Шекспира, музыка Моцарта, проза Дюма — дело в уровне. Может, «Дары волхвов» и в самом деле сусальная история для глянцевого журнала. Но — лучшая в мире сусальная история!
О. Генри предсказуем — прочитав два десятка его рассказов, можно угадать концовки всех остальных. Манипулятор, фокусник, технарь, он довел до виртуозности ремесло сюжетосложения, профессионального писания вообще. Это под воздействием О. Генри появились руководства по сочинительству, и я лично знаю молодую женщину, которая, оставшись без работы, купила такое пособие и выпускает уже третий бестселлер. О. Генри вроде бы нашел формулу успеха, что противоречит самой идее творчества, немыслимого без чуда. Но, во-первых, в предсказуемости и лестном для читателя угадывании есть обаяние, во-вторых — все это никак не объясняет, почему перечитывают О. Генри.
Его достижение — разумеется, не сюжетные извивы, а интуитивно, чудесным образом найденная пропорция юмора, здравого смысла, сентиментальности, — и этому его научил Нью-Йорк.
Когда я нахожусь вдали от Нью-Йорка, мне хочется напоминать себе и другим, что я — оттуда. Наверное, не надо: печать неизгладима. «Нью-Йорк? — говорит он, наконец. — Изначально и время от времени, — говорю я. — Неужели еще не стерся?» Не стирается: в столице мира царит первозданная простота, уроки которой годятся всюду. Самый городской из городов возвращает к Колумбовым ориентирам: в Нью-Йорке все соотносят себя со странами света — «на северо-восточном углу», «двумя кварталами южнее», «западная сторона улицы». Построенный без лекала, умышленный хлеще Петербурга, воплощенная мечта Малевича и Мондриана, Манхэттен вырастает из океанских просторов и пионерских прерий, и язык никогда не даст этого забыть.
Просты идеалы: «Если у меня будут лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из двух комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать „Историю цивилизации“ Бокля». С поправками на время и место — Генри Торо, Обломов, Пульхерия Ивановна. Что, если вдуматься, близко: это вровень с человеком. Все — и смех, и чувствительность, и пафос — с человеческим лицом.
Просты принципы: «Вы ведь не презираете денег, Келли? — Я? — сказал Келли. — Я бы убил того, кто выдумал бедность».
В рассказах О. Генри торжествует поэзия товарного словаря, железнодорожного расписания, ресторанного прейскуранта. Не уметь вычитывать ее из жизни — подлинное несчастье. Потому что «самое главное — не бессмертие души и не международный мир, а маленький столик с кривоногим судком, фальсифицированным вустерским соусом и салфеткой, прикрывающей кофейные пятна на скатерти». А то, что люди постановили называть поэзией, занимает подобающее место: «Подобные стихи оскорбляют закон и порядок, но почта их пропускает на том основании, что в них пишут не то, что думают».
Просто-таки разнузданность здравого смысла!
Он писал свое пособие по жизни, бродя по великому городу, неизменно возвращаясь к перекрестку с небоскребом «Утюг», вокруг которого размещался его Манхэттен, его Нью-Йорк, его мир. Всего восемь лет и всего несколько десятков кварталов — а сколько вообще нужно? «В большом городе происходят важные и неожиданные события». Чтобы разобраться в них, необходима наводка на резкость — О. Генри это умел. Он внятен, забавен и прост, но — тем не исчерпывается. Зазор неизвестен, потому что неопределим. Он не зря назвал Нью-Йорк «Багдадом-над-Подземкой», а рай поместил в Кони-Айленд. Чудеса — за ближайшим углом: это страшно и восхитительно. «Мы в состоянии постичь климат, но погода выше нашего понимания».
О. Генри всеприемлющ и терпим: горожанин обязан быть таким, хотя бы из инстинкта самосохранения, из опаски ответного удара. Страх и выгода — закон общежития и основа правопорядка. Горожанин не добр — он осмотрителен. Это надежнее и долговечнее — как еще обернется доброта, за кого, против кого, с какой праведной яростью? Отсюда — никогда не оскорбительный, не издевательский смех О. Генри. В некрологе юмориста Билла Ная он написал конечно же о себе: «Его юмор — чисто американский: основанный на острых и неожиданных контрастах, сближении противоположностей для эффектного сравнения. Шутки никогда не ядовиты. Они сверкают, как летняя молния над горизонтом жизни. Они безвредны, как улыбка ребенка».