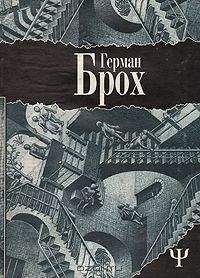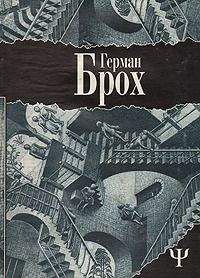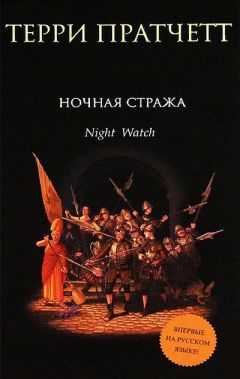Герман Брох - Избранное
О мантуанские долы, о долы детства, ласковые долы человечности, незабвенные, отеческие долы — тщетно вглядываться в даль, они исчезли, они потускнели и растаяли в воцарившейся кругом неподвижности. Недвижимо застыло все сущее, неподвижно стоял человек у окна, уже не Октавиан, а некое олицетворение хрупкости и силы, и суровости, и несгибаемости, почти уже отрешенное от всего человеческого, а вокруг в призрачно гигантских очертаниях простиралось его государство.
— Даже если сегодня, о Цезарь, тебе приходится оборонять пределы государства, грядущее царство будет беспредельным; даже если ты нынче ощущаешь необходимость разделения между правом большим и меньшим, неделимой станет однажды справедливость, уязвимой будет целокупная общность в каждом единичном человеке, огражденным будет право единичного человека в праве общности; и пускай ты нынче вынужден скупо отмерять свободу, ни крупицы ее не давая рабу и лишь малую крупицу давая римлянину, дабы только сохранить свободу целого, — в царстве познания неограниченной станет свобода человека, и именно на ней, всеохватная, будет зиждиться свобода мира. Ибо царство познания, царство истинной реальности, в которое, расцветая, превратится твое государство, будет не царством народных масс и даже не царством народов, а царством человеческой общности, и опорой его будет человек, осененный знанием, единичная человеческая душа, ее достоинство и свобода, ее красота и богоподобие.
И голос раба заключил: «Из праха смиренной сирости нашей восстанет нам познание».
Август, как видно, ничего не слышал; невозмутимо он продолжал:
— Реальность Рима — земная реальность, и человечность его земная человечность; трезва ее мягкость к тому, кто послушен, и трезва ее суровость к тому, кто самонадеянно противится порядку. Не только на италийской земле я воспрепятствовал отчуждению собственности крестьянства — нет, я воспрепятствовал этому на всей территории империи; я облегчил бремя налогов в провинциях, я вернул народам их права и привилегии, я положил конец бесхозяйственности и анархии правления, называвшего себя республиканским и тем позорившего имя республики. Мои недруги могут сказать, что это все весьма будничные дела, а не блестящие подвиги. Ну что ж, своими будничными делами я восстановил честь опозоренного имени республики, и я же, вопреки гражданской войне и разрухе, снова привел империю к процветанию и благосостоянию. В будничной трезвости — блеск и величие Рима, и буднично трезва римская человечность; трезво печется она о благоденствии всех сограждан и ни с кем не заигрывает, ничьей любви не домогается, а нередко даже видит себя вынужденной отрезать путь к еще более совершенной человечности или по меньшей мере отложить ее совершенствование до лучших времен. К примеру, я постоянно стремился облегчить участь рабов, но для благополучия империи рабы необходимы, и потому им придется свыкнуться с этой истиной, какая бы там справедливость ни причиталась угнетенным по праву и как бы они к ней ни взывали; вопреки всей моей мягкости и с крайней неохотой мне пришлось пойти на то, чтобы в законодательном порядке ограничить право освобождения рабов, и вздумай они сейчас против этого взбунтоваться, появись меж ними новый Спартак, я вынужден буду, так же как Красс, тысячами распять их на крестах, — вынужден буду сделать это как для устрашения, так и для потехи народа, дабы он, постоянно готовый и к жестокости и к робости, свирепствуя и содрогаясь, познал ничтожность единичной особи перед лицом всеповелевающего государства.
«Нет, — сказал раб, — нет, мы воскреснем в духе. Ибо каждое узилище для нас — новая свобода».
Не обращая на него ни малейшего внимания, владыка продолжал свою речь:
— Будучи сами частицей народа, мы являемся собственностью государства, мы принадлежим ему душой и телом, и, принадлежа ему, тем самым принадлежим народу; ибо если государство олицетворяет собой народ, то и народу надлежит олицетворять собой государство; и если государство обладает неоспоримым правом собственности на нас и наши деяния, то равным образом обладает им и народ. Велико или мало наше деяние, зовется оно «Энеидой» или как угодно иначе, народ и вправе и обязан располагать им как своей собственностью; каждый из нас — в рабстве у народа, в рабстве у несмышленого и властолюбивого ребенка, бунтующего против всякой опеки и все же нуждающегося в опеке.
— Народ этот называет тебя отцом, Август, и ожидает от тебя опыта познания, как от отца.
— Что народ? Он хуже малого ребенка — робок и труслив, когда остается без надзора, опасен в своей беспомощности, глух ко всем увещеваниям, ко всем доводам рассудка, чужд всякой человечности, чужд угрызениям совести, непостоянен, капризен, ненадежен и жесток — но он же и щедр, и великодушен, и самоотвержен, и мужествен, когда снова обретает себя, когда исполняется безотчетной уверенности ребенка, когда в нем просыпается предчувствие верного пути и он сновидчески твердо идет к цели. О друзья мои, велик и прекрасен народ, для блага коего мы рождены, и благодарны богам мы должны быть за возложенную на нас обязанность служить ему нашими делами, благодарны того более — за назначение вождя, выпавшее нам на долю, всего же благодарней — за ниспосланный нам богами приказ воплотить это назначение в деяние; памятуя о великом младенце, вверенном нашему попечению, нам надлежит обуздывать его, ни в чем его при этом не ущемляя, оставляя ему все, чем он дорожит, а стало быть, и ребяческое опьянение играми и жестокостью, ибо посредством этого опьянения он сам себя оберегает от излишней мягкотелости и податливости; но именно потому нам надо удерживать его в известных границах, дабы не причинять вреда ни другим, ни себе, дабы не одичал вконец, ибо нет ничего страшней и опасней, чем буйное неистовство ребенка, именуемого народом; оно есть неистовство подкидыша, сироты, и потому нам надобно печься о том, чтобы народ не чувствовал себя сиротой. О друзья мои, нам надлежит радеть о младенчестве народа, дабы надежно укрытым чувствовало себя дитя под родительским кровом, и лишь тот, кто умеет с мягкой отеческой строгостью управлять народом, кто дарует надежный оплот его жизни, и душе, и вере, — лишь тот призван богами сплотить народ в государство — не только для жизни под охраной государства, но еще более для защиты его, для смерти за него в час роковой угрозы. О друзья мои, лишь такой жестко ведомый и сдерживаемый народ способен к действенной защите себя самого и своего государства, лишь таковым способен он вместе с государством переступить порог вечности, то есть на веки вечные оградить себя от гибели, иначе неминуемой. Вот какова наша цель, непреходящая в веках, на века заповеданная государству, на века заповеданная народу.
Кто дал на это ответ? Был ли дан на это ответ? Как ни странно, ответ не заставил себя ждать:
— На века заповедана лишь истина, свободная от неистовства и упреждающая неистовство истина реальности, почерпнутая в глубинах земли и неба, ибо она одна есть непреходящая и незыблемая реальность, и, сплоченные в истине, сплоченные в согласии, сплоченные в деянии во имя истины, народы — а поверх всякой народности и сам человек — на веки вечные вольются в грядущее царство, и царству тому не будет конца. Лишь деяние, свершенное во имя истины, способно[преодолеть смерть — как свершившуюся, так и грядущую; лишь так пробуждается дремлющая душа к всепознанию, коего благодать от рождения дарована всякому, кто носит обличье человека. Для истины растет государство и в истину врастает, она побуждение и цель его вызревания, в ней оно обретает свою окончательную реальность, возвращаясь к неземному, божественному своему началу, дабы воплотилось во времени великолепие века, нашло свое осуществление в человеческом царстве, в божественном царстве человечества, царстве, возвышающемся над всеми народами и обнимающем все народы. Цель государства — царство истины, раскинувшееся во все пределы и все же растущее, подобно древу, из глубин земли к глубинам неба, ибо в растущем благочестии и смирении осуществляется это царство, в благодати мира, в реальности всеохватной истины.
Снова Август оставил без внимания его слова, снова они говорили, не слыша один другого, снова их речи, будто недвижимо воздвигшиеся в недвижности, не соприкасались друг с другом.
— Любовь богов не предназначается отдельному человеку; до него им заботы нет, и смерти его они не знают. Слово богов обращено к народу, непреходящее их бытие обращено к его непреходящему бытию, оно-то им и важнее всего, его они охраняют, ибо знают, что вместе с ним прейдет и их бытие. И если они все-таки отличают какого-то одного смертного, то единственно ради того, чтобы наделить его властью для установления государственной формы, каковая способна была бы внести надежный закон и порядок в непреходящее бытие народа, предназначенное для вечности. Земная власть есть отблеск божественного престола, и, пребывая меж реальностями, божественной и народной, между вечным порядком богов и вечным порядком народов, то и другое воплощая в государстве, власть государя сама становится непреходящей и вечной; вместе с богами и народом она вдвойне реальна, и потому она сильнее смерти и жизни. Так, существуя между божественным и народным, являя собой отблеск божественного, отражаемый в народном, земная власть обращается не к единичному человеку и государство обращается не к множеству отдельных людей, а всегда лишь к народному целому, дабы сохранить в нем свою непреходящую реальность. Никакая власть не способна утвердиться, если она опирается лишь на людей, — она уходит в небытие вместе с ними; сколь бы щедра и благословенна она ни была, ее сметет прочь первый же порыв людской переменчивости; так было с мирными начинаниями Перикла, которого прогнали за то, что он не остановил чуму у стен города, так могло бы случиться и со мной три года назад, когда Риму угрожала голодная смерть. Конечно, боги, дающие нам хлеб земной и потому повелевшие мне, их наместнику, озаботиться сохранением сенаторских пожертвований зерном в пользу народа, — боги тогда оказали мне великую милость: я успел снарядить александрийский флот с грузом зерна, попутные ветры сократили ему время в пути, так что худшее удалось предотвратить; но и это бы мне не помогло, повсеместные вспышки недовольства привели бы мою власть к падению, не зиждись она на целокупности богов, на целокупности народа; и постоянно эта власть, а вместе с нею и сама государственность Рима зависела бы от случайных капризов публичной молвы, низведи я осуществление власти до потребы дня, в муравьиную сутолоку единичных земных существ. Государство есть высшая реальность; незримо раскинулось оно во все пределы, но, даже и незримое, оно настолько высшая реальность, что в нем не место ничему смертному и бренному; как смертный и бренный человек, стою я здесь, но в кругу полномочий государства, на поприще власти я обязан отрешиться от всего бренного и стать символом бессмертия, ибо, только став символом, способно смертное приобщиться бессмертию, тому бессмертию, что и воплощено в римском государстве, силою своей реальности вознесенном выше всех символов. В двуединой своей реальности государство олицетворяет собой не одну только власть богов, и ему недостаточно возвести акрополь им во славу — в не меньшей мере оно обязано воздвигнуть символ и для народа, для этой другой опоры своей реальности, — могучий символ, чаемый народом и понятный ему, величественный образ, в коем он распознал бы себя самого, символ своей собственной власти, пред коей он готов добровольно и трепетно склонить голову, смутно прозревая, что власть в земных пределах — и тому пример Антоний! — всегда подвержена соблазну преступления и что лишь тот владыка, который является вместе и символом непреходящей реальности, не впадает в такой соблазн. И потому я, принявший власть во имя сохранения римского порядка, принявший ее как ленный дар от богов и как наследство от моего божественного отца, дабы однажды передать ее дальше по цепи поколений вплоть до самого последнего правнука, — потому я дозволил, более того, повелел воздвигнуть себе статуи в храмах, независимо от всех других богов, почитаемых народами моей державы, и это памятники ее единству, ее врастанию в единый всеобщий порядок, простирающийся от океана до берегов Евфрата. Мы никого не принуждаем перенимать наши обычаи, нам некуда спешить, у нас есть время, и мы можем подождать, пока народы по собственному разумению не пожелают воспользоваться преимуществами нашего правопорядка, наших мер и весов, нашей монетной системы — а тому есть уже немало признаков и примеров; но мы взяли на себя нерушимый долг всемерно споспешествовать этому переходу к римскому образу мыслей, мы должны без промедления обеспечить его повсеместно, пробудить гордое сознание империи во всех народах, ее составляющих. Мы обязаны сделать это во имя богов, являющихся наивысшим выражением римского духа, и мы можем осуществить это лишь в символе, лишь посредством образной силы символа. Это, и ничто другое, распознал римский народ, когда потребовал воздвигнуть мне статуи — не затем, чтобы суеверно поклоняться мне как богу, коим я не являюсь, а затем, чтобы воздать благоговейные почести моему богоданному сану, те почести, к коим должно обязать и все другие народы в пределах имперских границ, потому что в символике этого сана истинно воплощается внутренний рост государства, его неизбежное устремление к имперской цельности, воздвигнутой под сенью римского мира и благоденствия на все времена.