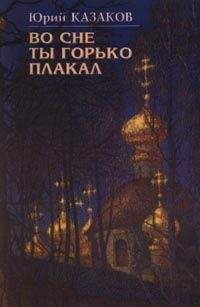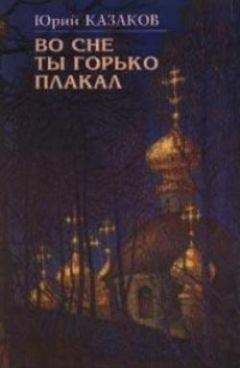Поедемте в Лопшеньгу - Казаков Юрий Павлович
Любопытная история предшествовала рассказу «Странник». Студентом был я на практике в Ростове. Кстати, — опять отвлекусь чуть в сторону, — руководил практикой Ефим Дорош, прекрасный писатель, которого я тогда как-то не оценил: длинноносый, темноглазый, довольно невеселый человек, он в ту пору казался мне чуть ли не стариком. А ему было всего сорок. То есть теперь я намного его старше. Между прочим, как раз он очень советовал мне писать очерки (сам он тогда работал над «Деревенским дневником»).
Можно было поехать куда угодно, хоть на Камчатку, но я полагал, что мое дело изучить Россию. И вот мы — в Ростове.
Товарищ мой — он сочинял стихи — писал (ведь практика же) поэму про раскопки, которые велись в окрестностях Ростова. Надо было отчитываться и мне. Пошел я в местную газету. «К чему лежит ваша душа?» — спросили меня там. Я почему-то ответил: «К фельетону». Тогда из газеты меня направили в городской суд, оттуда послали в милицию, где можно было взять на выбор — убийство, грабительство, поджог. Но это же для фельетона не тема. И вот попалось мне такое дело: был арестован некто, под видом странника ходивший по городам и весям. Я, что называется, ознакомился с фактами: этот хмырь с бородой (а бородатые экземпляры тогда еще редко встречались в России) пришел в церковь, где, упав на пол, истово молился (во спасение России). Подошла к нему старушка и, узнав, что он странник божий, предоставила ему ночлег. Со старушки взять было нечего, но она сдавала угол каким-то молодоженам, чьи небогатые пожитки он и присвоил. Поймали его на базаре, где он, уже выпивши, торговал ворованным.
Ну и биография у него оказалась! Сначала учился на художника, а потом обворовывал церкви, бродяжничал… Я написал о нем небольшой фельетон, который с удовольствием опубликовала маленькая районная газетка…
…А когда я вернулся в Москву, то вдруг померещилось мне в фигуре странника нечто большее, чем простой мелкий жулик, — наверное, и какая-то неясная мысль влекла его вдаль. И я написал рассказ.
— Когда вышел «Странник» и некоторые другие ваши рассказы, населенные подобными типами, кое-кто из критиков упрекал вас в любовании иррациональными, темными сторонами человеческой души. Но ведь вот что интересно: странник — пустой, недобрый, вороватый парень, а именно через его восприятие открывается нам мистерия полей, эти подбегающие к дороге березки, вообще красота мира. А видим мы ее глазами жулика.
Кстати, многим вашим героям (вспомним и Егора из «Трали-вали») присуще смутное влечение к дороге. Вот и в «Северном дневнике» звучит гимн дороге, и произносите его — вы… Почему же вы так любите странников? Чем они близки вам?
— Да нет, у меня далеко не все рассказы о странниках. Если же говорить о значении дороги, странничества, то для писателя нет ничего лучше. Масса новых впечатлений, глядишь на все жадно, запоминаешь ярко, характеры встречаются такие, что хоть сейчас в рассказ! Только нужно ехать обязательно одному, а если трое-четверо, ничего не выйдет, — приедешь бог знает куда, сядешь с друзьями за самовар, и опять пошли московские разговоры, будто и не уезжал. А одному скучно, когда один, тянет на люди, поговорить хочется, разузнать, как живут, — ведь каждый человек так глубок, так интересен.
Сказать по правде, я только теперь принимаюсь за городские рассказы, а раньше: поехал на Волгу, в Городец — написал два рассказа, поехал на Смоленщину — три, поехал на Оку — два, и так далее.
Люблю свой дом в Абрамцеве, но и жалею, жалею, что купил когда-то, очень держит дом — ремонты всякие, — не стало прежней легкости, когда за полдня собрался — и был таков!
Хочу на Валдай! Хочу опять стать бродягой, думаю все время, как я когда-то одиноко ездил, никому не известный, никем не любимый… чем не жизнь?
Хочу ехать на пароходе. Можно бродить ночь по палубе. Говорить с вахтенными матросами, слушать машину. Можно проснуться на рассвете от тишины — потому что стоишь возле пристани у какой-нибудь деревеньки — и жадно увидеть и увезти с собой какую-то милую подробность. Чтобы потом вспомнить.
Помню, как когда-то мы, молодые писатели, ездили в гости к Илье Григорьевичу Эренбургу, который писал тогда «Люди, годы, жизнь». Интереснейшая была встреча. У него оказался мой первый, и тогда единственный, сборник «На полустанке». Не припомню уже, что я написал на нем Эренбургу, а он в ответ написал мне на своей книге: «Все мы живем на полустанке». То есть в пути…
— Вы пишете и детские рассказы и даже являетесь членом редколлегии журнала «Мурзилка». Однажды на страницах этого журнала вы выступили в очень необычном жанре — написали статью для самых маленьких о Лермонтове. И вот вышли ваши новые рассказы «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал», построенные в форме обращения к маленькому сыну. Дети интересуют вас как собеседники, в обращении к которым вы испытываете особую потребность. Так ли это?
— Одно дело рассказы о детях, а другое — для детей. Вы упомянули «Мурзилку». Так вот, если иметь в виду самого маленького читателя, то рассказ для него должен быть предельно прост, лаконичен, интересен и поучителен. (Это, кстати, большое искусство; есть писатели, посвятившие этому свою жизнь.) Рассказ же о ребенке, написанный для взрослых, может быть сколь угодно сложен. Во всяком случае, свои рассказы о маленьком сыне («Свечечка» и «Во сне ты горько плакал») я бы ни за что не посмел предложить маленькому читателю.
— Юрий Павлович, в одном из ваших очерков, написанных более десяти лет назад, вы говорили о том, что мужество писателя — это мужество особого рода. Как бы вы сейчас могли развить эту мысль?
— Очень ярко помню свою фамилию под своим первым рассказом — мало того, что я испытывал счастье, но в глубине души думал: «Вот кто-то прочтет, и мой рассказ на него подействует — и человек этот станет иным!» Я уж не говорю о той вульгаризаторской критике, отзвуки которой я еще застал и по которой выходило так: стоит только написать положительного героя — и сразу, немедленно весь народ пойдет по его стопам. А отрицательный герой обязательно деморализует общество. Если писатель изображал отрицательного героя, он, таким образом, «предоставлял трибуну врагу». Вот ведь до чего договаривались!
Но, по мере того как я знакомился с величайшими образцами литературы, по мере того как сам писал все больше и по мере того как оглядывался на современную нам жизнь, вера моя в силу слова начала таять. Дошло до того, что я стал недописывать свои рассказы, оставлять их в черновиках, думал: «Ну напишу я еще несколько десятков произведений, что изменится в мире? И для чего литература? И для чего тогда я сам?»
Что толку в моих писаниях, если вот даже вся страстная, громовая проповедь Толстого никого ничему не научила? Когда говорят о Толстом-моралисте, о Толстом как о нашей нравственной совести, подразумевают прежде всего его этико-религиозные произведения, его публицистику, его «В чем моя вера?», его «Не могу молчать». А разве его художественные сочинения не есть (в какой-то мере — не с религиозной точки зрения) то же учение, — все эти описания бесчисленных состояний человеческой души, весь мир, предстающий перед нами на страницах художественных, разве это не возвышает нас, не учит нас добру, не говорит нам бесконечно убедительно, что мы не должны грешить, не должны убивать, а должны бесконечно любить мир с его облаками и водами, лесами и горами, с его небом и — человека под этим небом?
С какой горечью писал Ленин о ничтожно малом круге читателей Толстого в неграмотной России! За границей же Толстого при его жизни, я имею в виду широкого читателя, — знали недостаточно. И тем не менее Толстой ведь едва не сделался основателем новой религии! Во всяком случае, если с Христом его не сравнивали, то с Буддой же равняли.
С тех пор, кажется, не стало в мире ни одного истинно грамотного человека, который не читал бы Толстого, не думал бы о нем и его учении. Что ж! Казалось бы, слова столь убедительные, столь разумные должны были бы переродить нас, и мы, по выражению Пушкина, должны бы, распри позабыв свои, объединиться для всеобщего благоденствия…