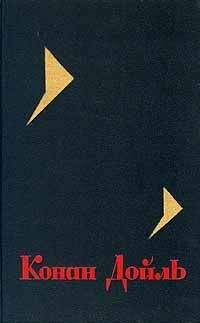Донна Тартт - Щегол
«Здравствуй, родной. Привет, мой хороший». Она подкрадывается сзади, прихлопывает мне глаза ладонями: угадай, кто? Она хотела знать обо мне все, про все-все, чем я занимаюсь. Ввернется рядом на маленькую «любовную» кушетку эпохи королевы Анны, так что у нас ноги соприкасаются: господи, господи. А что я читаю? А можно залезть в мой айпод? А где это я раздобыл такие потрясающие часы? От ее улыбки веяло раем. Но стоило мне под каким-нибудь предлогом остаться с ней наедине, как вот он припрется — шлеп, шлеп, шлеп, — с туповатой улыбкой обхватит ее за плечо и все испортит. Вот в соседней комнате голоса, взрыв смеха: это они обо мне говорят? Он обнимал ее за талию! Звал ее «Пипс»! Единственный более-менее сносный, забавный даже случай за все это время был, когда Попчик, который к старости стал ревнив, вдруг ни с того ни с сего напрыгнул на него и укусил за палец — «Ой-ей!» Хоби кинулся за спиртом, Пиппа мечется, Эверетт старается не подавать виду, но заметно разнюнился: да-да, собаки — это здорово! Обожаю собак! У нас просто их никогда не было, мама — аллергик. Он (по его же словам) был «бедным родственником» какой-то ее старой школьной подруги, мать — американка, куча братьев и сестер, отец преподает какую-то математическую/философскую заумь в Кембридже; сам он, как и Пиппа, вегетарианец, «ближе к веганству даже», и тут я еще с ужасом узнал, что они и квартиру вместе снимают (!) — и, конечно же, пока они у нас гостили, он спал с ней, а я все пять ночей, все то время, пока она была тут, не сомкнул глаз, исходя желчью от тоски и злости, прислушиваясь к каждому шороху простыней, к каждому вздоху и шепотку, доносившемуся из соседней комнаты.
И все-таки я помахал рукой Хоби и Фогелям — приятного вам вечера, — а потом угрюмо отвернулся, ну а чего еще я ожидал? Как же меня злил, как же задевал меня этот ее любезный ровный тон, которым она разговаривала со мной в присутствии этого «Эверетта»: нет, сдержанно ответил я, когда она спросила, нет ли у меня кого, «да нет, в общем», хотя (и этим я как-то мрачно, сознательно гордился) на самом деле я спал сразу с двумя разными девчонками, которые друг о друге даже не подозревали. У одной парень жил в другом городе, а у второй был жених, от которого она подустала — оказавшись в постели со мной, она обычно сбрасывала его звонки. Обе очень хорошенькие, а та, которая наставляла рога жениху, была и вовсе красоткой — просто юная Кэрол Ломбард, но ни к той, ни к другой я ничего не испытывал, то были просто дублерши Пиппы.
Чувства мои меня раздражали. Сидеть и плакать над «разбитым сердцем» (это выражение первым, к сожалению, приходило в голову) — так себя только идиоты ведут, нюни, слабаки и задроты — ой-ей-ей, она теперь в Лондоне, у нее другой, так пойди, блин, купи вина, выеби Кэрол Ломбард и живи уже дальше. Но думать о Пиппе было так мучительно, что забыть ее — все равно что пытаться забыть про больной зуб. Я думал о ней безотчетно, безнадежно, жадно. Годами я просыпался и первым делом думал о ней, с мыслью о ней засыпал, и в мой день она вторгалась бесцеремонно, надоедливо, вечно — как удар током: который сейчас в Лондоне час — я постоянно прибавлял и вычитал, прикидывал разницу во времени, как одержимый лез в телефон проверить, какая там в Лондоне погода, плюс одиннадцать, 22.12, небольшие осадки; стоя на углу Гринич и Седьмой авеню возле заколоченной больницы Святого Винсента, торопясь на встречу с дилером, я все думал о Пиппе: где она? едет в такси, ужинает в ресторане, пьет с людьми, которых я не знаю, спит в кровати, которой я никогда не видел? Мне безумно хотелось взглянуть на снимки ее квартиры, чтобы подбавить столь желанных деталей к моим фантазиям, но просить об этом было стыдно. Я томился мыслями о ее простынях, какие они, какие, я воображал их темными, казенного цвета, смятыми, нестиранными — темное студенческое гнездышко, белеет веснушчатая щека на бордовой, багряной наволочке, барабанит за ее окном английский дождь. Фотографии, тянувшиеся по стенам за дверью моей спальни — разные Пиппы всех возрастов, — превратились в ежедневную пытку, каждый раз — как в первый, каждый раз — неожиданно; я пытался отводить глаза, но всякий раз что-то случалось, я взглядывал наверх — а там она, смеется чьим-то шуткам, улыбается не мне, и опять свежая рана, опять удар ровнехонько в сердце.
А самое-то странное: я знал, что мало кто видит ее такой же, какой видел ее я — скорее уж чудной, из-за этой ее своеобразной походки и призрачной бледности, какая встречается у рыжих. Отчего-то я сдуру вечно себе льстил мыслью, что, мол, в мире только я один и могу ее оценить по достоинству, что она удивится, растрогается и, может, даже взглянет на себя совсем другими глазами, если узнает, до чего она для меня красива. Но этому не бывать никогда. Я с яростью накидывался на ее изъяны, всматривался в фотографии, где она была запечатлена не в самом лестном возрасте, в неудачных ракурсах — длинный нос, впалые щеки, глаза (несмотря на ошеломительный их цвет) из-за бледных ресниц будто голые, простушка да и только. Но для меня все эти ее черточки были такими славными, такими особенными, что я только сильнее отчаивался. Будь она красавицей, я бы мог утешать себя тем, что мне до нее как до Луны, но из того, что меня так волновала, так преследовала ее некрасивость, неумолимо выходило, что это любовь, которая привязывала посильнее физического влечения, смоляная топь души, где я могу трепыхаться и чахнуть годами.
Но самую глубинную, самую незыблемую часть меня не брали никакие доводы рассудка. Она была утраченным царством, той моей нетронутостью, которую я потерял вместе с мамой. Вся она была как лавина диковинок — от старинных валентинок и расшитых китайских халатов, которые она собирала, до крохотных душистых пузырьков из «Нилс-Ярд Ремедис»; вечно что-то яркое, что-то волшебное было в ее далекой, незнакомой жизни: дом 23 по бульвару Тимбукту, кантон Во, Швейцария, Бленхейм-Кресчент, W11 2ЕЕ, меблированные комнаты в странах, которых я никогда не видал. Ясно же, что этот Эверетт (который «беден как церковная мышь» — его, его выражение) живет на ее денежки, точнее — на денежки дядюшки Велти, старая Европа жирует за счет юной Америки, как я на последнем курсе выразился в своем эссе по Генри Джеймсу.
Может, ему чек выписать, чтоб он отвалил? Неспешными прохладными вечерами в магазине мысль эта приходила мне в голову: пятьдесят тысяч, если уедешь прямо сегодня, сто — если обещаешь с ней больше никогда не видеться. С деньгами у него затык, это было видно: он вечно нервно шарил по карманам, вечно бегал к банкомату, снимал за раз по двадцатке, господи боже.
Безнадежно. Да она в жизни не будет значить столько для господина Музыкального Библиотекаря, сколько значила она для меня. Мы были созданы друг для друга, была в этом какая-то сказочная правильность, неоспоримое колдовство; сама мысль о ней наполняла сиянием каждый уголок моего сознания, высвечивала такие чудесные просторы, о которых я и не подозревал, панорамы, которые и существовали только в совокупности с нею. Я снова и снова проигрывал ее любимого Арво Пярта, чтобы хоть так быть с ней, стоило ей только упомянуть о прочитанной книге, и я жадно за нее принимался, чтобы пролезть в ее мысли, словно бы сделаться телепатом. Некоторые вещи, проходившие через мои руки — плейелевское пианино, чудная маленькая поцарапанная русская камея, — были точь-в-точь вещественные доказательства той жизни, которую мы с ней должны были прожить по праву.