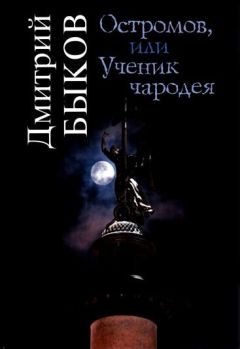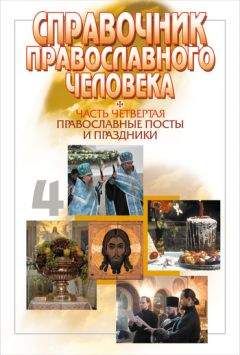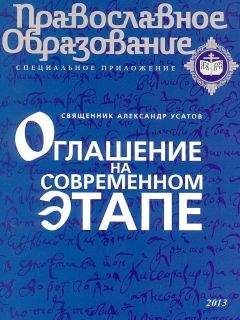Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Даня почтительно кивнул и отошел как-то странно — шаг назад, шаг вбок, словно уступая дорогу чему-то истинно-величественному. Он понял. Учитель гнал его, заботясь о его безопасности, но нашел-таки способ передать ему число.
3Сказать, что он торопился опробовать число, как торопится миллионерский сынок прыгнуть в подаренное папашей авто, — было бы неверно: само число неистовствовало в нем. Оно требовало взлететь, как гора сама подталкивает лыжника — ну же, один толчок, и вниз со свистом; оно настаивало на попытке, как последний кусок складной картинки умоляет поставить его на место. Число было то самое, он почувствовал это сразу — и вместе с тем никакая сила не заставила бы его открыть эту цифру своим умом. Самая форма, в которой она была дана, казалась единственно возможной — и потому никаким простым подбором не открылась бы. Ко всему прочему, это был год рождения отца.
Он почти не помнил, как ушел с базара. Улица постепенно исчезала, словно растворяясь в Суре. Он шел по бесконечно долгому склону, спускаясь все ниже, словно разгоняясь для взлета, — и, достигнув дна, взлетел. Все благоприятствовало. Окраина была пустынна, и взлет оказался непривычно легок — пыльное, душное небо с двумя-тремя штрихами перистых облаков словно притянуло его. Перо, вспомнил он, говорилось что-то о пере. Он взлетал без утомительных штопорных поворотов, не ввинчивался, а втягивался, и смотреть на него было некому.
Река сверху была тяжелой, изжелта-черной, но он уже привык к этим сменам цветов, к вспышкам красного среди мирной зелени, к разноцветным крышам домов: форма не менялась, но сквозь нее истинным цветом проступала сущность. Пенза отсюда желтела, как глина, чуть лохматясь по краям, и среди этой глины мерцали и тлели голубоватые пятна горя, плесень привычной нищеты и сдавленной мстительности. Всего этого, впрочем, было на изумление мало. Было ясно, что город без особенных изменений простоит еще не одну геологическую эпоху — как любой город, выключенный из истории и не подотчетный никакой морали.
Несколько пьяненьких бродило в эмпиреях по случаю субботнего дня, почти не различая друг друга. Некоторые из них видели Даню и принимали за пьяного. «Браток! — крикнул один. — Ты не с Саранска ли чо ли?». — «С Саранска», — ответил Даня из внезапного озорства. «Ах, братишечка, — сказал стертый пьяница, — какая жизень моя вся горькая, горькая, как чертов хвост». Вероятно, чертовым хвостом называлось едкое местное растение, а может, он просто не знал, что несет. В первом эоне такое случалось сплошь и рядом.
Уходя выше, в кисейную пылевую облачность неясного происхождения — словно душа пыли парила над душой Пензы, — Даня ждал, что у него спросят цифру, но вместо этого с небывалой прежде четкостью увидел эгрегоры. Их было, как он и угадывал прежде, два; но то, что на первой ступени представлялось безликими сущностями, обрело теперь лица и речь, и Даня не сразу, но с болезненной ясностью понял, кто перед ним.
Сущности были, как он и предполагал, мужская и женская, в отношениях странного чередующегося равноправия. Они были вариативны, то есть масочно разнообразны, но сущностно неизменны. Роли эти сменялись на глазах, как в волшебном фонаре, но в сущности она была скандальная пьяная баба, а он ее сожитель, содержанец и сутенер, спьяну ее поколачивавший. При этом она была хо-хо-хо! — хозяйка публичного дома, а он сторож и швейцар. При этом она была рябина, а он дуб, и оттого она вся была в мелких красных рябинах, а он ничего не понимал. Иногда она была секретарша, а он конвоир. Нередко она была купчиха, а он работник, и вместе они отравляли свекра со свекровью, жадных садистов, которые были они же. Из всех ролей они безошибочно выбирали худшие — те, где надо было мучить и мучиться. Они попытались заголосить: «Спасайте, люди добрые, забижают больных, больных!» — и оскалили крупные зубы, но Даня внятно сказал: «Пятьдесят шесть»; и это подействовало.
Тогда они прибегнули к величию. Это был их любимый аргумент, сравнительно продвинутый, если взять за точку отсчета визгливое непущание. Они встали в странную позу, сцепившись жилистыми руками и вытянув их вперед. Они представились необъятными. От них гуще запахло сырым мясом, ибо это была их единственная пища. Они ненавидели друг друга и яростно совокуплялись. Им было лень. Их пучило. Они были действительно очень большие. «Пятьдесят шесть», — сказал Даня и мысленно расположил семь дверей в восемь рядов — семь на восемь, восемь на семь.
Тогда они прибегли к последнему — как им казалось, безотказному. Их сделалось жалко. Особенно жалко сделалось ее, ибо если ты уедешь или просто отвернешься — представляешь, что он тут сделает с ней?! (На самом деле они были в сговоре.) Они были добренькие, пьяненькие. Они были бедненькие. Они были слезливые, неяркие, у них что-то развевалось по ветру. Кротко, безответно хрустели они чьими-то, явно не своими, костями — впрочем, все кости тут были их. Они умылись слизистыми слезьми. Это в самом деле было очень грустно.
«Пятьдесят шесть», — сказал было Даня, но почувствовал, как где-то глубоко внизу, в бесконечно отдаленной Пензе, одна раскаленная точка рыдает над ним и над собой, одна точка бесконечной любви и непрощаемой вины, ни на что не надеющейся нежности и бессмысленного раскаяния; одна жалкая, стыдящаяся привязка, перерубить которую было невозможно. Они затаились, наблюдая. Это была ловушка.
«Семь на восемь, восемь на семь», — сказал он с ненавистью и впустил в семь дверей семерых зверей, а восьмая распахнулась для него.
Он ожидал воя, угроз, проклятий, — но вслед ему веяло лишь крайним, непробиваемым равнодушием, которое одно и таилось под всеми этими соитиями, зверствами и вишневыми садами; равнодушием такой пустынной пустыни, что самая мысль о мысли смешна на ее грязно-белом снегу. И пылающая точка, навеки одна, затерялась в ней.
Он глубоко вздохнул и поднялся во второй эон. Немногие счастливцы приветствовали его. Лазурное небо античности распахнулось вокруг.
Он ехал в трамвае на вокзал, и вокруг было лазурное небо античности. А в Пензе больше нечего было делать, да и не было никакой Пензы. Она как-то стиралась по ходу, а когда он сошел с трамвая, стерся и трамвай.
4Надя узнала его сразу. Она узнала бы его из тысячи заключенных, согнанных в страшный глинистый овраг, из тысячи бродяг, тянущихся скорбной вереницей по кругам провинциального ада, по серпантинным уличкам холмистой Пензы; из сорока тысяч любящих братьев, из миллиона принцев, явившихся за ней. В сотнях снов являлась ей эта встреча, в прекрасных, а чаще в страшных декорациях, потому что нестрашных она не заслужила. Всюду он спускался за ней в ад, и его появление означало, что она прощена. Рухнуло дерево страшное, эхо весь лес потрясло.
Всем существом ждала она этой минуты. Она знала, что прощения нет, но это значило, что прощение есть. Есть грехи несмываемые, но в чем смысл любого греха, если нет прощения? Вполне очиститься нельзя, но можно вернуться в число живых, можно разрешить себе хоть на секунду снова числить себя среди людей. Если очень долго не прощать себя, Бог простит тебя. Она понимала, что это подлая мысль, но не могла отринуть ее. Бога без милосердия для нее не было, Бог не мог не простить. И Даня был послан знаком этого прощения.
Сотни раз думала она, как это будет; как кинутся друг к другу они, сразу узнавшие друг друга при первой же встрече; как она все расскажет ему, уже все знающему. Как он не найдет греха в ее предательстве. Как он оправдает его.
Простить и разрешить мог он один — точней, Бог через него. Бог любил Даню, чудесно спас его, сделал ее предательство поправимым и, как знать, простительным. Она ждала его, как дурочка в сказке ждала своих парусов. И вот он сидел в трамвае, где она пела и просила милостыню, — в желтом дребезжащем трамвае единственного пензенского маршрута, от базара к вокзалу, базар-вокзал.
Он сидел на коричневом сиденье и смотрел мимо нее невидящими восторженными глазами, смотрел мимо нее и не видел ее. И она боялась встать прямо перед ним, ибо это значило бы нарушить условия. Она стояла поодаль, в проходе, любовалась его неземным, светящимся лицом и ждала. Несколько раз он скользнул по ее лицу золотыми невидящими глазами. И снова устремил их туда, где не было для нее места.
Она забыла петь, забыла просить и молча любовалась им. Он исхудал, исчезла добрая, прекрасная юношеская размытость черт, обозначился острый подбородок и решительные, даже вдруг татарские скулы. Неизменны остались волосы, мягкие, волнистые, которые она решилась погладить всего однажды. Он весь был не здесь, и это ясней ясного говорило, что прощения нет, — его новая высота обозначила ей все ее падение. Она вдруг увидела себя со стороны — пыльная, погасшая, прежде времени постаревшая Надя, сломленная непоправимо, безнадежно. До Пензы была надежда, но теперь нет. Она жила с Остромовым уже давно, не дождавшись третьего знамения, — жила потому, что жалела его, тоже старого, опустившегося. Ей надо было кого-то жалеть, не так, как жалеет большинство, желающее возвыситься этой жалостью, а так, как гусеница ползает и бабочка летает. Эта жалость была ее жизнью, другого дара ей не было дано, и отнять этот дар было так же немыслимо, как запретить воде течь, а песку сыпаться. Не будь Остромова, это направилось бы на другого, на первого ребенка во дворе, но Остромов был тут, и он дождался своего часа. Она переехала к нему не сразу, долго ждала неизвестно чего, — но через полгода стала жить с ним, и он, хмурый, вечно злобный, смягчился. Он иногда теперь даже мечтал вслух, как после ссылки увезет ее на Кавказ, и там они заживут. У него были знакомства на каком-то чайном заводе, он даже написал туда, но ответа не получил.