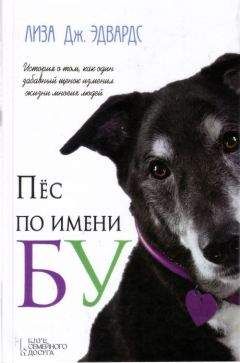Жоржи Амаду - Подполье свободы
Теперь Мариане очень хотелось помочь страдавшей девушке, и она спросила у няни, когда та пришла готовить постель:
– Чем больна девушка в соседней палате? Что-нибудь серьезное?
Это уже была не та молодая и веселая няня, что дежурила утром. Сейчас пришла пожилая, несколько грубоватая.
– Серьезное? Не знаю… Но судя по врачу, который ее сюда доставил, ничего серьезного там нет… Эти дуры…
– Что? – переспросила Мариана, ничего не понимая.
Няня пожала плечами.
– Обычное житейское дело… – сказала она и вышла.
Мариана легла и принялась читать вечерние газеты. Ее кровать стояла у стены, смежной с соседней палатой, и скоро до слуха Марианы донесся звук шагов: это ее соседка ходила взад и вперед. «Она волнуется…» – подумала Мариана, стараясь сосредоточиться на чтении газеты, но, в конце концов, отложила ее и взялась за роман. Это был изданный несколько лет назад «Железный поток» Серафимовича, переведенный с русского. Мариана уже читала эту книгу до больницы; она была очарована эпическим повествованием: будто видела воочию, как зарождалась заря социализма в России. И как только врач разрешил ей читать, попросила мать принести ей эту книгу. Однако взволнованные шаги девушки в соседней палате, временами звук заглушенного рыдания помешали ей читать: она испытывала желание подняться, пойти в соседнюю палату, попытаться как-нибудь ободрить несчастную. Но какое она имела на это право? Мариана погасила свет, попыталась заснуть. Тысячи мыслей и образов возникали у нее в мозгу, но она не могла задержаться ни на одном из них; звук шагов печальной девушки отдавался у нее в мозгу. Что с ней происходит? Она производила впечатление такой симпатичной, славной и вместе с тем такой хрупкой, надломленной…
Мариана не могла заснуть. Лежала и слушала, как ходит соседка. Потом до нее донесся шум: кто-то вошел в соседнюю палату – наверное, доктор. Спустя некоторое время она услышала, как в коридор выкатили койку – невидимому, больную отправили в операционную. «Пусть бы все прошло благополучно…» – пожелала Мариана, чувствуя глубокое сострадание к этой незнакомой девушке и сама не представляя себе, почему она принимает участие в ней: может быть, потому, что та казалась такой печальной и одинокой?
На следующее утро опять дежурила молодая и веселая, словоохотливая няня. Мариана поинтересовалась:
– Как соседка? Операция прошла благополучно?
– Операция – пустяки. Врач сказал, что еще позавчера у нее в результате падения произошел выкидыш, а сюда она уже явилась для лечения. Кто знает, может, оно и так… Я не люблю никого осуждать без доказательств. Но одно несомненно: этот доктор Антенор не привозил сюда еще ни одной пациентки без осложнений после выкидыша… Ах, если бы на него напустить полицию!..
Но Мариана уже ее не слушала, всецело захваченная нежностью и жалостью к Мануэле; теперь вполне понятны и ее безысходная печаль, и заброшенность, и одиночество, и ее тревожные шаги вчера ночью. Ведь и она, Мариана, тоже всего лишь несколько месяцев тому назад потеряла так страстно желаемого ребенка, и ей было знакомо оставшееся после этого чувство опустошенности; она помнила, сколько слез пришлось ей пролить, как приходилось прятать от окружающих свое горе. У нее выкидыш тоже произошел в результате падения, и она вполне оправилась от потрясения лишь после того, как ощутила, что внутри опять шевелится новое существо, ее ребенок. Бедная девушка, такая молодая и такая красивая! Надо утешить ее, пробудить в ней вновь интерес к жизни; сказать ей, что беременность – чудесный факт зарождения жизни – повторится вновь, как это случилось с ней, Марианой…
Няня, закончив уборку палаты, добавила:
– Она даже отказалась от кофе… Все плачет…
Мариана вышла в коридор. Дверь соседней палаты была закрыта. Потом пришла мать, принесла утренние газеты и новости о Жоане: ночь он ночевал дома; если успеет, к вечеру зайдет ее навестить, если же нет, – придет завтра.
– Он очень устал?
– Как обычно. Если он не будет отдыхать, скоро придется отправить в больницу и его…
– Ох, не накликай беды, мама!.. – улыбнулась Мариана.
– Не накликай беды… Не накликай беды… То же самое говорил твой отец, когда я его предостерегала. Ну, и кончилось тем, что первая же болезнь унесла его жизнь. Хорошо еще, что ему довелось умереть дома, а не в тюрьме…
После ухода матери Мариана больше не могла ждать – пошла и постучала в дверь соседней палаты.
– Войдите… – отозвался слабый голос. Девушка лежала на кровати. Она была еще бледнее, чем накануне, еще глубже погружена в свое страдание.
– Я не помешаю? – спросила Мариана.
Мануэла отрицательно покачала головой. Ее белокурые волосы рассыпались по подушке, в глазах стояли слезы. Мариана подошла к кровати, провела ласковой рукой по волосам, на которых играли солнечные лучи. Грудь Мануэлы сотрясалась от рыданий.
– Моя бедная подруга… Няня мне все рассказала…
– Все рассказала?..
– Со мною случилось то же самое. Точь-в-точь. У меня тоже в результате падения был выкидыш. Я упала с трамвая, понимаете? Потому я знаю, что вы должны испытывать, как вам трудно с этим мириться… Когда это со мною произошло, муж находился в отъезде – он коммивояжер… Но надо быть сильной, нельзя падать духом.
Мануэла повернулась к Мариане лицом. Она не пыталась скрыть своих слез. Слушала первые ласковые слова после того, как все это началось, и чувствовала себя благодарной чужой для нее женщине, которую до больницы она никогда не видела, о которой ничего не знала; эта женщина не походила на знакомых ей людей: бедная, но без приниженности бедняков предместья, где выросла Мануэла; уверенная в себе; участливая, как старый друг.
– Простите, что я вмешиваюсь, – я делаю это не из дурных побуждений. Но вы, сеньора, так красивы, что не имеете права быть печальной. И когда няня мне про вас рассказала, я все сразу поняла, потому что мне самой пришлось испытать то же самое. Вы должны, сеньора, сопротивляться, не давать горю овладеть вами…
Мариана улыбалась, гладя Мануэлу по волосам. Здесь в первый раз после всего случившегося Мануэле пришла в голову мысль, что для нее, может быть, еще и не все потеряно. Накануне, до прихода врача, и еще острее – после возвращения из операционной – она чувствовала себя какой-то тряпкой, бесполезной, лишенной всякого смысла вещью; жизнь, думалось ей, кончена. Она пошла на такой шаг ради Лукаса, из-за любви к брату, которого она всегда считала воплощением лучших качеств, какими только может обладать мужчина. Но вернувшись после операции, она почувствовала, что даже любовь к Лукасу пропала: перед ее взором стоял мертвый ребенок, в ушах звучал его последний крик; тот самый ребенок, что в снах являлся ей живым и радостным, называл ее «мама». Зачем брат потребовал от нее такой жертвы?
Для него существовали только дела, деньги, беспредельное честолюбие. В жертву своему честолюбию он принес и ее, и ее будущего ребенка. И как некогда вышло с Пауло, так получилось сейчас с Лукасом: новый образ заменил прежний, идеализированный, и от этого одиночество Мануэлы возрастало, грозило ее задушить.
Больше ничего у нее не было, никого не осталось. Теперь ее не утешало даже последнее прибежище – искусство. Ей казалось, что ноги навсегда утратили стремление скользить по сцене, выражать в танце владеющие ею чувства. Может быть, такое ощущение возникло в ней оттого, что жизнь для Мануэлы утратила всякую ценность, – а ведь танцы были ее жизнью, ее грезами, желаниями, волнениями. Теперь она была как мертвая, и мысль о танцах не могла ее оживить. Она потеряла жениха и брата, семью и честь; она потеряла своего ребенка, еще прежде чем он успел появиться на свет.
Лежа на больничной койке после ночи, проведенной без сна, она впала в какую-то тяжелую апатию, словно все для нее отныне было кончено. Вот в такую минуту перед ней и появилась Мариана.
Мануэла усилием воли взяла себя в руки, ответила на дружескую улыбку Марианы и пригласила ее:
– Садитесь…
Мариана придвинула к кровати стул и продолжала говорить. Она говорила очень простые слова; но эти простые слова были для Мануэлы хлебом насущным.
– Я уже поправилась, но врач хочет, чтобы я еще дня на три-четыре осталась в больнице. Могу составить вам компанию, мне нечего делать… Я знаю, что в вашем положении тяжело быть одной.
Мануэла больше не смогла сдерживаться. Сильнее, чем стыд, было в ней желание с кем-нибудь поделиться своим горем. И она обо всем рассказала почти безучастным от долгих страданий голосом. Мариана слушала, не перебивая, все понимая. Мануэла представилась ей беззащитной жертвой; все с ней случившееся явилось результатом существующего общественного строя – несправедливого и циничного. Эти люди, поклоняющиеся деньгам, разрушили все иллюзии девушки, сделали из нее одинокое, исполненное горечи существо. Мариана сумела оценить ее стойкость перед соблазном дешевого успеха; но в то же время поняла, что Мануэла не могла освободиться от предрассудков своей среды. Поэтому Мариана поверила ей, как поверила бы самой себе. Когда Мануэла закончила свой рассказ робкими словами: «Теперь вы все обо мне знаете, и я боюсь, что перестанете называть меня своей подругой», – тогда заговорила Мариана.