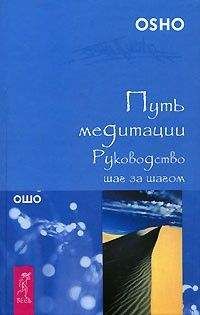Герой со станции Фридрихштрассе - Лео Максим
— Понимаете ли, не так уж часто ко мне заходят красивые женщины, чтобы поблагодарить. Поэтому я бы очень хотел узнать, в чем дело.
— Я была вместе с родителями в поезде, который уехал на запад. Мы остались там. Но так и не смогли понять… как это могло произойти, — сказала она. — Почему именно мы? Почему именно в тот день? Вы изменили нашу жизнь, за это я и хотела вас поблагодарить.
— Я рад этому, но думаю, что не я изменил вашу жизнь, а вы сами, когда решили остаться на западе. Ведь многие вернулись.
— Да, бол ьш инство вернулись на восток в тот же день. Моим родителям непросто далось это решение. Времени на раздумья было мало, что, впрочем, к лучшему.
— Куда же вы с родителями направлялись в такую рань?
— Мы перепутали и сели не на тот поезд, а вообще-то планировали ехать с Маркс-Энгельс-плац на Восточный вокзал, то есть в другую сторону. Мы собирались на Балтийское море, от папиной фирмы получили путевку в пансионат в Герингсдорфе. Поэтому у нас были чемоданы с купальниками и пляжными полотенцами. Это все, что мы взяли с собой из прошлой жизни. — Робость в голосе женщины постепенно исчезала, теперь она даже осмелилась взглянуть Хартунгу в глаза.
— А вы тоща хотели на запад? — спросил Хартунг.
— Мне было четырнадцать, не уверена, что я могла всерьез чего-то хотеть. Не уверена, что вообще знала, в чем разница между востоком и западом. Знаю только, что впоследствии у меня всегда было чувство, будто я что-то потеряла.
— Вашу прежнюю жизнь?
— Да, мне казалось, будто я в какой-то видеоигре перешла на следующий уровень и все начала сначала. Новый город, новые друзья, новая одежда, я даже думала о новом имени.
— Вы сменили имя?
— В итоге нет. Но хотела. Мне казалось, что старое имя не подходит к моей новой жизни… Но что-то я совсем заболтала вас своими историями, извините, обычно я не такая, но сейчас…
— …Вы растеряны?
— Как только я увидела вас по телевизору все эти воспоминания снова всплыли. Но у вас гости, а вы тут мерзнете. Я лучше пойду.
— Нет, не уходите! — неожиданно громко сказал Хартунг. — Вы спокойно можете остаться.
— Не стоит.
— Но хотя бы скажите, как вас зовут.
— Паула.
— Хорошее решение.
— Какое?
— Оставить это имя. Паула… Красивое. — Хартунг смущенно замолчал.
Она смотрела на него с удивлением:
— Что ж, тогда я пойду.
— Я бы хотел встретиться с вами еще раз, Паула… Ну, по поводу истории с поездом, у вас наверняка осталось еще много вопросов… — Он протянул ей визитную карточку видеотеки: — Тут мой номер.
— Я позвоню вам, когда более-менее приду в нормальное состояние.
— Кхм, мне вполне нравится и ваше ненормальное состояние, — сказал Хартунг.
Она снова бросила на него пронзительный, испытующий взгляд, помахала рукой на прощание и, не оглядываясь, ушла.
12
Мелкий дождь моросил с серого неба в то утро, когда заслуженный правозащитник Гаральд Вишневский вышел на улицу.
— Подходящая погода для революции, — буркнул он.
Вишневскому нравился тяжелый туман, запах влажной земли, похожий на выстрелы звук каштанов, падающих на крыши автомобилей. Ему казалось совершенно логичным, что по-настоящему поворотные события мировой истории происходили, как правило, в это время года. Осень была временем перехода, упадка и смены вех.
Ни одному здравомыслящему человеку, думал Вишневский, не взбредет в голову устроить революцию летом. Лето слишком теплое и вялое. Зима тоже далеко не идеальна для революции, потому что дни совсем короткие и люди неохотно покидают свои дома. Весной же хочется наслаждаться ароматом яблоневого цвета, влюбляться. Всякого рода гормоны, как говорил Ленин, губят революцион-нын настрой. Или это был Троцкий? Неважно, в лю бом случае остается только осень.
Для профессионального свидетеля времени, та кого как Вишневский, это был пиковый сезон. Его приглашали читать лекции не реже четырех раз в неделю. Дважды по сорок пять минут с перерывом. Или, в сжатой версии, шестьдесят минут без перерыва. Тема его лекций не менялась с девяностого года: «Моя жизнь при диктатуре». Сегодня на десять часов пятнадцать минут в его расписании стоял пятый класс начальной школы имени Германа Гессе в Кёпенике. Как уже выяснил Вишневский, проводить беседы о политике с пятиклассниками было настоящим адом. Так же как и с шести-, семи-, восьми-, девяти- и десятиклассниками. Длительность концентрации внимания у школьников составляла не больше десяти минут, остальное время они либо играли в телефонах, либо болтали. И хотя Вишневский никогда бы не произнес ничего подобного вслух, для себя он отметил, что такой вопиющей недисциплинированности во времена ГДР не было.
У здания школы его встретила госпожа Мёкель, учительница пятого класса. Госпожа Мёкель была очень взволнована. И очень молода. Возможно даже, подумал Вишневский, она родилась намного позже падения Стены.
— Замечательно, что вы пришли, господин Вишневский, исторические личности такого масштаба у нас еще не бывали!
— Ну какая уж там историческая личность… Вы преувеличиваете.
— Нет, вовсе нет! Это же так здорово — вживую увидеть человека, который был там, где творилась мировая история. Я уже все уши директору прожужжала, что необходимо пригласить свидетеля тех событий. Вот в школе имени Мендельсона во Фрид-рихсхагене недавно был выживший узник концентрационного лагеря. Это еще более захватывающе, то есть… не поймите меня неправильно…
— Ну что вы, я понимаю…
— Но этих выживших узников чрезвычайно сложно заполучить, нужно отправлять приглашение за несколько месяцев. Конечно, их осталось совсем мало. Вот почему я так обрадовалась вам, господин Вишневский. Сейчас, в историческую осень, даже правозащитники на дороге не валяются, если позволите так выразиться…
Вишневский вдруг почувствовал сильную усталость, он сосредоточился на одной точке у себя внутри, пока скрипучий голос госпожи Мёкель не стал тише и в конце концов совсем не заглох до невнятного бормотания. Он смотрел, как ее рот неугомонно открывался и закрывался, будто у карпа, выброшенного на берег. Этой технике приглушения Вишневский учился годами на бесконечных заседаниях, форумах, вечерах памяти и конференциях. Он назвал ее методом дельфина, потому что, подобно этим умным животным, он разработал своего рода сонар, позволявший даже из самого глубокого погружения в себя распознавать вопросы, обращенные к нему, и быстро выходить из спящего режима.
Эта техника зарекомендовала себя не только в работе, но и помогала Вишневскому в долгих разговорах с женой. Он считался хорошим слушателем как в профессиональной, так и в приватной сфере.
Главное было не расслабиться слишком сильно и не уснуть, как случилось однажды на заседании правления исторического общества Панкова, почетным членом которого он являлся уже десять лет. Требовалось оставаться бдительным: погруженным в себя, но при этом всегда начеку. Вот сейчас, например, госпожа Мёкель слегка повысила голос, что неизбежно указывало на вопрос. Вишневский мгновенно вернулся к беседе.
— Один вопрос, господин Вишневский, мне немного неловко, но… не разрешите ли до вас дотронуться?
— Что, простите?
— Ну, можно ли мне потрогать, например, вашу руку? — Не дожидаясь ответа, госпожа Мёкель приложила ладонь к левому предплечью Вишневского и горящими глазами взглянула на него. — Вы не представляете, господин Вишневский, что это ятя меня значит. В прошлом году мы с мужем были в Индии и встретили там старого монаха, он приложил к моему лбу руку, и это было так мощно, так самобытно…
Вишневский опешил. К счастью, госпожа Мёкель убрала руку, и они продолжили путь по длинному школьному коридору. Перед тем как открыть дверь в класс, она сказала:
— Мы с ребятами уже немного затрагивали тему разделения Германии, но не ожидайте от них слишком многого.
Парты в кабинете были составлены в большой круг. Госпожа Мёкель попросила Вишневского сесть на стул в центре класса, а потом обратилась к ученикам: